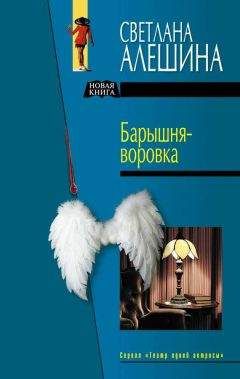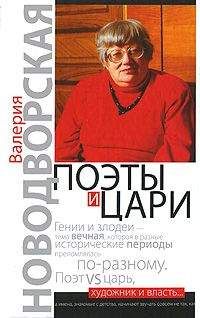Валерия Новодворская - Прощание славянки
Боровой
Иран. Еще есть Куба, куда ездил Лука.
Новодворская
А, купаться на Кубе и в Иране. Самое подходящее место. Представляю, какие курорты в Иране.
Боровой
Венесуэла есть теперь.
Новодворская
Да, правильно. Ведь можно было на эти калоши, которые они тащили на буксирах до Венесуэлы, прихватить купальные костюмы и там поплескаться в ближайшей бухточке. Новый курорт у Уго Чавеса.
Боровой
Прелестно.
Новодворская
Мы выпили до дна весь кофейник кофе. И на дне тоска. Но нет забвения, потому что мы пили не тот напиток, который дает забвение. Интеллигенция никогда ничего не забывает, в отличие от охлоса, который может напиться и забыться. Интеллигенция не забывает ничего. На первый взгляд, у нас пустые руки. У нас нет никаких инструментов воздействия на власть, нас мало, с нами можно не считаться. Ни в электоральном смысле, ни в политическом, ни в экономическом. А морали у них нет. Но у нас есть одно право, о котором им не дадут забыть. У нас есть право короновать или развенчивать. Это право всегда на Руси принадлежало интеллигенции, независимо от того, сколько ее было. Память потомства принадлежит нам. Как запомнят Путина, как запомнят Сечина, как будет выглядеть в потомстве вся эта компания? Это наша функция. И никто никогда не сделает это за нас. Так всегда было в России, и так всегда будет. В потомстве останется Лернейская гидра, вот такой ее фотопортрет, со всеми щупальцами. Чудище обло, озорно, стозевно. Это мы сделаем. Будущее может не наступить для России; возможно, у России вообще нет будущего. Но останется историческая память, и останутся какие-то свитки, какие-то книги, какие-то надгробные надписи. Что будет написано на надгробиях — это тоже в наших руках. И то, что мы напишем этому режиму и сегодняшней России на этой странице, то и останется. И наше проклятие перейдет в потомство и будет странствовать по страницам истории, пока существует человечество. Я думаю, что мы разделались с ними в гораздо более эффективной форме, чем если б мы это сделали на поле боя. Мы летописцы. Такова наша общественная функция, и здесь, на этих страницах, мы их проклинаем. И пусть они это скушают. Это их доля с нашего кофепития. Мы их угощаем. Это наше угощение.
Боровой
Замечательно. Все.
Последний день Помпеи
Я не была вундеркиндом, поэтому сталинских времен я не помню. Мне было три года, когда тиран отправился в ад. XX съезд я не помню тоже, но хорошо помню XXII. Я помню, как радовался учитель истории, получив возможность рассказывать нам, шестиклассникам, о пытках и лагерях. Я помню, как издыхала, агонизировала первая оттепель; как ее заносило снегом, как лужи затягивало льдом. Я помню жуткий холод 65-го (процесс Даниэля и Синявского) и снежную лавину, накрывшую нас в 1968-м (ввод войск в Чехословакию). Я прошла сквозь брежневский застой, который для меня был подобен могильному склепу, диссидентом, с оружием (шариковой ручкой) в руках, ангажированным и военнообязанным врагом СССР, тоталитаризма и социализма. Я прямо как зиц-председатель Фунт: сидела при Леониде Ильиче Брежневе, а при реформаторе Михаиле Горбачеве — сидела тоже. Мне некогда было наслаждаться коротким зимним ельцинским летом: надо было все время с чем-то бороться и кого-то спасать. То анархистов Родионова и Кузнецова (1991–1992 гг.); то Виктора Орехова (1992 г.); то Грузию (1992–1993 гг.); то Вила Мирзаянова (1994 г.); то Россию от путча (1993 г.). То Чечню (1994–1996 гг., а потом до Хасавюрта). То Александра Никитина (1995 г.). То Григория Пасько (1996–1997 гг., а потом еще при Путине). И Игоря Сутягина, и В.Моисеева. И это все при Ельцине!
И вот сейчас тот мир, который возник в августе 1991 года, будет уничтожен, сожжен лавой, засыпан пеплом. Везувий выбрасывает столбы огня, рушатся наши храмы (Свободы, Демократии, Народничества, Веры в Россию), падают статуи богов. Демократы в положении евреев польского гетто. Выведены за скобки, изолированы от путинских арийцев (всем довольных), обречены. На молчание, на маргинальность, на народное презрение; может быть, на заключение или смерть.
Самое время писать свою летопись. То, что видел, то, о чем могли рассказать. Сталин, Ленин (это предания, но есть еще очевидцы, помнящие первого и писавшие с натуры о втором). И моя личная коллекция правителей: Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Путин. На нем, кажется, история прекращает течение свое, как при Угрюм-Бурчееве из Салтыкова-Щедрина.
Уходят из Варшавы поезда,
И скоро наш конец, как ни крути,
Ну что ж, гори, гори, моя звезда,
Гори на рукаве и на груди.
А.Галич, «Кадеш»
Представьте себе планету, где никогда не бывает лета. Не собирают урожай, не копают картошку, не дергают бурак. Яблоки не созревают, виноград остается в завязи, бутоны не распускаются. Накатывает осень, крошечные зеленые листики желтеют и опадают, молодую салатового цвета травку заменяет рыжая, грубая, старая, похожая на медвежью шерсть. А потом на эти жалкие, робкие начала идет снег, ложится белый могильный саван, который нередко скрывает в своей холодной утробе и бутоны, и всходы, и не успевшие лопнуть почки. И снова свистит метель — до следующей оттепели. Илья Эренбург это видел, он в этом саване жил. Он знал, что эту планету зовут «планета Зима». И совсем не в романе Урсулы Ле Гуин или Гарри Гаррисона. Эту планету зовут Россией, Русью, Российской Федерацией. «А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, а только гордость и беда».
Хрущевская оттепель была не первой оттепелью, передышкой, мимолетным улучшением климата, перемирием и «хорошим днем» у чахоточного больного в наших широтах. Первой оттепелью с внезапным ночным морозом было время Бориса Годунова (Федор Иоаннович был добр, но слаб умом и волей, и за пределами дворца ничего не умел устроить, никаких реформ не проводил, и все осталось в намерениях, как в зернах). А Борис проводил западнические реформы, хотел быть абсолютистом, а не автократором. Но ненадолго его хватило. Права была Анна Ахматова: «Бориса дикий страх». Страх, угрызения совести, менталитет худородного выскочки, ордынско-византийские комплексы — но только все быстро пошло по колее царя Ивана IV. Доносы, казни, особая заздравная молитва за царя, спущенная сверху — на каждый домашний вечер.
Второй оттепелью было мимолетное правление твердого западника Григория Отрепьева, Лжедмитрия. Он хотел искоренить рабство и страх, варварство и отсталость, он энергично принялся за дело. Но ему не дали реформировать Русь, его убили.
Третья оттепель — это было царство Екатерины II. Просвещение, «наказ», «конституционное собрание», науки и искусства. Но уверовавшая во все это элита была жестоко остановлена в своем радостном полете на пламя свечи. Остановлена расправами с Новиковым и Радищевым. Законом для каждой следующей российской оттепели станет это стихотворение Курочкина из освободительных александровских времен: