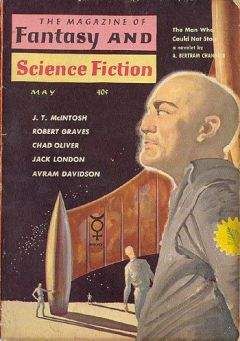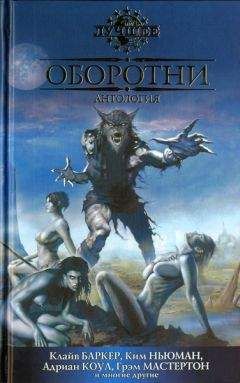Александр Воронский - За живой и мёртвой водой
Спустя несколько дней понемногу, в одиночку, стали съезжаться делегаты. Приехали Серго Орджоникидзе, Леонид Серебряков, Филипп Голощекин, Догадов, и однажды в редакции, к несказанному своему удивлению и радости, я застал Яна. Он приехал из Екатеринослава. Я уговорил его поселиться вместе со мной.
В ожидании приезда остальных делегатов мы ходили гурьбой по городу, посещали театры и музеи, спорили, расспрашивали друг друга «о работе на местах». Разбросанные и разобщённые до сих пор, мы впервые за последние пять-шесть лет сошлись вместе, мы убеждались, что повсюду, несмотря ни на какие препятствия, вопреки казням, каторге, тюрьмам, ссылкам, всё же ведётся общая и дорогая всем работа. Серго, один из главных организаторов конференции, укорял нас за то, что мы распустились, ведём себя неосторожно, но он и сам заражался нашей радостью, подъёмом и беспечностью.
Я полюбил чешскую столицу. На ней опочили века и древность. В Праге был открыт первый европейский университет. Здесь жил, неистовствовал и страдал Ян Гус, я видел его церковь. За городом фанатически и кроваво боролись до последнего издыхания табориты. За мостом на взгорьях дряхлели средневековые замки. Строгая, одухотворённая готика костёлов, дворцов и палаццо со стремительными, точно готовыми оторваться от земли линиями, со стрельчатыми нишами и лёгкой кружевной лепкой погружали в эпоху крестоносцев, турниров, прекрасных дам, церковных орденов, монастырей, цехов, каминов, баллад, охот, пиршеств и трубадуров. На старинной ратуше ещё сохранились огромные затейливые часы, и, когда они звонили альтом в двенадцать часов, в амбразуре окна следом один за другим показывались и проходили двенадцать апостолов. В Национальном музее хранились старинные латы, кольчуги, забрала, щиты, заржавленные мечи, которые было лишь впору поднять, копья, самострелы, луки, первые пушки и ружья, железные сундуки с такими сложными и хитрыми замочными механизмами на внутренней стороне верхних крышек, что невольно думалось об упорной кропотливой работе, об изумительном ручном искусстве старых мастеров. Вдыхая затхлый, застоявшийся запах, я подолгу стоял в той части музея, где был целиком воспроизведён, как бы перенесён кабинет алхимика, со странными колбами, с ретортами, с кабалистическими книгами, с котлами и жидкостями. Я вспоминал раннюю юность, увлечения историческими романами, повестями, новеллами о средних веках. С удивлением начинал остро и глубоко чувствовать, что эта готика, ратуши, замки, кабинеты алхимиков, латы и кольчуги, эти напоминания о звуках рожков на охоте в лесах у опушки, когда мороз и серебряный иней, и конь горячится под всадником со шлемом и забралом, — эти сказания о войнах вольных городов, бесконечно мне ближе, чем наши Кремли, чем наше византийское на русский лад, чем терема и вече, суздали и лавры, богатыри и соловьи-разбойники, точно когда-то жил я именно здесь, в Праге, в средние века, и дни и годы этой жизни оставили в душе неизгладимый, поэтический отпечаток. Тут была как будто моя настоящая родина, колыбель, единственная, любимая. И так же неведомо, отчего это странное и прочное чувство соединялось с мотивом баркаролы из «Гофмановых сказок», однообразной, меланхолической, грустной и нежной, без начала и без конца, как бы вечной, звучащей из прошлого, уводящей в минувшее. Тихо, бессловно она жалела, жаловалась, что когда-то жили поколения людей, любили, страдали, трудились, отдыхали, своим чередом шла своя жизнь, свой быт, и вот теперь всего этого нет, не будет и никому до этого нет дела и участья.
Я жил двойной жизнью: читал зарубежную подпольную литературу разных толков и направлений, спорил с приятелями, ждал и готовился к конференции, обсуждал планы поездок по России после нашего съезда — и в то же время отдавался новой родине, мечтательному прошлому, грустным и сладким воспоминаниям о том, чего никогда со мной не было, но что было сильней, ярче, дороже всего пережитого в действительности.
Приехали Залуцкий, Шварцман, Степан, Сурен. Из Лейпцига Пятницкий известил, что один из явочных адресов провалился и что часть делегатов, вероятно, арестована. Со дня на день ждали приезда Ленина, Зиновьева, Каменева. Ознакомившись подробно с зарубежными социал-демократическими группами, мы, русские делегаты, решили, что конференция созывается в очень узком и ограниченном составе, что некоторые инакомыслящие течения тоже должны принять участие в наших работах. Взглядов их представителей мы не разделяли, но полагали, что для большей авторитетности конференции, их следует нам пригласить. Мы послали пригласительные письма Плеханову, Троцкому, Богданову, Луначарскому, Алексинскому.
Спустя несколько дней на квартиру, запыхавшись, прибежал Серго, очень встревоженный.
— Одевайтесь, — сказал он, — приехал товарищ Ленин. Сердитый! Ай, ай, ай! — Серго цокнул языком, засвистел и покачал головой. — Ругается. Очень ругается.
Мы поспешно вышли на улицу. В комнате Серго мы застали Леонида и других делегатов. Ленин сидел обособленно на стуле, в чёрном пальто, застёгнутом на все пуговицы, глубоко надвинув на лоб котелок и опираясь на трость. Рыжие усы у него топорщились. Он сдержанно и холодно поздоровался, внимательно, не дружелюбно и остро оглядел нас, расправил быстрым и привычным жестом усы, поводя по ним указательным пальцем, сухо, отчуждённо и жёстко спросил:
— Ну, так как же: широкую конференцию предполагаете созвать? С Плехановым, может быть, с Мартовым и Даном?
Кто-то ответил, что Мартова и Дана мы не приглашали, а другие социал-демократические группы привлечь следует. Не отвечая на защитительные доводы, Ленин желчно перебил:
— Привлекайте, привлекайте. Имеете все права привлекать кого угодно. Жаль только, что вы не спросили предварительно нашу группу, хотим ли мы с приглашёнными вами сидеть за одним столом?
Решительно и порывисто поднявшись, он надвинул ещё глубже котелок на лоб, опираясь одной рукой на трость, сказал сварливо, но сильно и беспощадно: — Вольному воля. Вы объединяйтесь, а мы будем разъединяться. Вы открывайте свою конференцию, а мы откроем свою, другую, новую, не с вами и против вас. До свиданья!
Он двинулся, не глядя на нас, к выходу. Серго стал в дверях, расставил широко руки. Мы окружили Ленина, нестройно и наперебой начали уговаривать его остаться. Ещё не поздно, недоразумения можно уладить, нельзя срывать конференцию и т. д. Ленин слушал, полузакрыв веками глаза, как бы утомлённый. Мы оттеснили его к столу. Он снова сел на прежнее место, снял котелок, пригладил ладонями обеих рук венчик рыжеватых волос на голове, крепко потёр пальцем возле левого уха, сощурился, обвёл нас хитрым, мимолётным взглядом и вдруг, заразительно и весело улыбнувшись — отчего всё его лицо сразу осветилось, сделалось открытым и близким, сказал наставительно и примирительно: