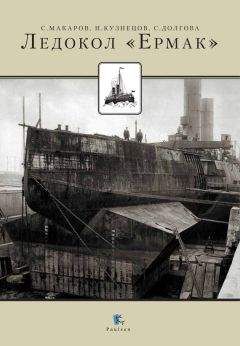Надежда Кожевникова - Гарантия успеха
А Гриша, как и она, относился к своей учительнице с безграничной благодарностью: Татьяна Львовна действительно очень ему помогла. До поступления в Московскую консерваторию Гриша жил в Харькове, занимался у местной знаменитости и до семнадцати лет, то есть вплоть до приезда в Москву, не сомневался, что будущее его прекрасно. Но, оказавшись в консерватории, как-то сразу сник: выяснилось, что в музыкальном его воспитании было много погрешностей, что он того не умеет и это не знает, тут зияет дыра и здесь провал, а вкус ну просто чудовищный — полное отсутствие вкуса!
Его исполнительская манера в тот период была какой-то папуасской: чем громче, тем лучше, и без всякого смысла наращивался бешеный темп, и пыхтел, и урчал он за инструментом — словом, что-то невообразимое.
И внешне производил диковатое впечатление: отрастил чуть ли не до плеч шевелюру пышнейших смоляных волос, что при небольшом росте, щуплости приводило к явной несоразмерности.
Татьяна Львовна взялась его «цивилизовать». И первый ее приказ был — остричься. Выполнять последующие требования пришлось уже с большими усилиями, большим трудом, но Гриша в умелых руках оказался благодатнейшим материалом.
За короткое время он сделал огромные успехи — это была очень восприимчивая, одаренная натура. Только вот с темпами его продолжало заносить: захватывала скорость, как гонщика, и он не в состоянии был противостоять тому наслаждению, которое доставляла ему собственная виртуозность.
И еще: как исполнитель Гриша обладал необузданным темпераментом и предпочитал тех композиторов, которые предоставляли ему возможность, что называется, раздаться вширь. А когда он не играл, лицо его принимало нежно-мечтательное выражение и держался он робко.
Одевался в какие-то куцые пиджачки и светлые коротковатые брючки, из-под которых торчали его неуклюжие детские, по щиколотку зашнурованные башмаки. Такая экипировка в сочетании с провинциальной скованностью оставляла впечатление довольно жалкое, но при этом, если вглядеться, вдруг обнаруживалось, что Гриша замечательно красив.
Это было одно из тех лиц, от которых глаза современных людей как бы уже отвыкли, разучились понимать, ценить подобную безупречность черт, тонкость рисунка и первозданную яркость красок, как на иконах, — такие лица кажутся выплывшими из древности, из тьмы веков, и скорее воспринимаются как музейное чудо.
Парадокс: Адик, чье лицо не имело ни одной правильной черты, считался в консерватории признанным красавцем, а на Гришу с его безупречной внешностью никто и внимания не обращал: ну, считали, славный парень…
И Маша была того же мнения. Присутствуя на занятиях Гриши с Татьяной Львовной, она сделала вывод: как исполнители она и Гриша стоят на противоположных полюсах, и одного учительница старается приблизить к «северу», а другую — к «югу». Если бы можно было их обоих смешать, получилось бы то, что надо! Гришины технические возможности плюс Машин «культурный слой» — вот был бы пианист! Но, увы, каждый из них со своими проблемами маялся, и каждый недоумевал про себя: ну как он это не может понять?! Ну неужели она не в состоянии это сделать?!
Но, возможно, именно контрастность, музыкантская и человеческая, Машу с Гришей и сблизила. А Татьяна Львовна, со своей стороны, всячески эту дружбу поощряла. Говорила даже с излишней прямотой: «Пойди, Гриша, проводи Машу, тебе полезно с ней пообщаться».
«Полезно?» Ничего себе выраженьице! Точно она, Татьяна Львовна, была садовник и рассчитывала, скрестив яблоню с березой, получить ананас.
Маша подумала про ананасы, когда Татьяна Львовна, вернувшись из другой комнаты после телефонного разговора, милостиво их оглядела, и Маша сразу же от Гриши отодвинулась. То, что она в тот момент к своей учительнице испытывала, было не чем иным, как ревностью: да, она ревновала Татьяну Львовну к Адику — что же он для нее, дороже всех?
И тут Татьяна Львовна состояние ее обострила, произнеся облегченно: «Ну, слава богу, он дома, — и, вздохнув- дурачок!»
«Это она — об Адике?» — шепнула Маша в ухо Грише. «А то о ком же!» — с той же, что и у нее, ревнивой интонацией отозвался он.
22. Самый длинный автомобиль
Среди студентов консерватории существовала своя иерархия: на самой низкой ступени стояли те, кто мог рассчитывать только на диплом об окончании высшего учебного заведения, — и все, и дальше карабкайтесь как сумеете. Чуть выше располагались претенденты на участие в международных конкурсах. Еще выше — те, кто в конкурсах уже участвовал, но не занял первые места. И, наконец, шла когорта победителей — обладателей первых премий, золотых медалей — у этих с будущим все уже было ясно, они и залы концертные получат, и гастроли им обеспечат, все у них будет, все.
Дорога к Олимпу велась только через конкурсные сражения. Да, говорили, что это неправильно, что многие очень одаренные музыканты не выдерживают самой атмосферы конкурса, где все подсчитывается на очки, на баллы, и потому впереди нередко оказывается тот, у кого просто нервы крепче, — неправильно, мол, не всегда справедливо, но иного способа отбора, помимо конкурсов, так и не могли найти.
Итак, оставался один путь: подготовиться к конкурсу и победить. По тому же принципу, что и на спортивных состязаниях- раньше всех коснуться финишной ленточки, выше всех прыгнуть, и чтобы без сбоя, без единой промашки, чтобы судьи твою победу могли доказать как дважды два. И при всем при том еще малость: чтобы твое исполнение было не только безупречным, но и чарующим, ошарашивающим, чтобы ахнули слушатели — вот это да-а!..
Вот такова была конкурсная процедура. После внутриконсерваторского прослушивания отбирались те, кто должен был ехать на конкурс в какую-нибудь заморскую страну, где о советской исполнительской школе были наслышаны, — и не подкачай, парень!
Студент, живший, скажем, в консерваторском общежитии, в комнате, где еле умещались кровати, в путь собирался быстро, потому как личным имуществом отнюдь не был обременен — имущество как таковое у студента, будущего конкурсанта, вообще, можно сказать, отсутствовало. Ну имелся костюм, годный для выхода на сцену. Впрочем, костюм можно было одолжить, по первому разу…
И вот получал студент авиабилет, садился в серебристый лайнер и отправлялся, ну скажем, в Париж.
В Париж так в Париж — какая разница! Будь то хоть Рим, хоть Лондон — конкурсанту не до их красот. Не за тем он ехал — а за Премией. Между турами ему заниматься надо было, к новым штурмам готовиться, а Париж — куда он денется? — не убежит.
Ослепленный своими тревогами, конкурсант ничего не видел и ничего не желал, кроме Первой премии. А что она ему эта самая Первая премия даст, тоже из суеверия думать опасался — просто желал ее, и все.