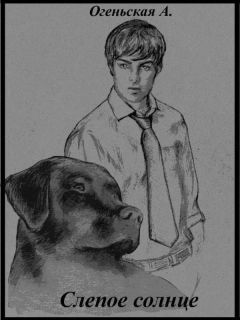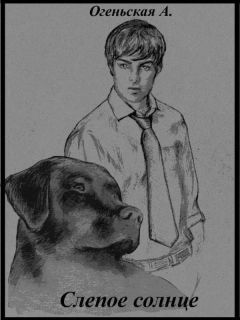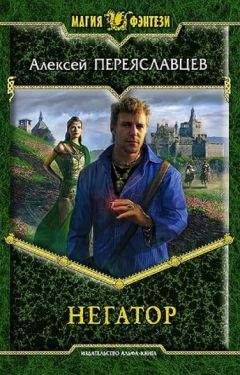Николай Греч - Воспоминания о моей жизни
Им молви от меня: не сетуйте, друзья!
Сия последняя могла бы почесться важной, если бы первая половина сего стиха не рифмовала со второй. Поэты, приятели мои, видя мое смущение, поспешили приискать несколько подобных рифм в сочинениях нашего Батюшкова, который, несмотря на то, что они не богаты, остается, по-прежнему, одним из первоклассных русских поэтов. Вот сии примеры: мечей, друзей, часть II, стр. 47; очей, друзей, часть II, стр. 51; друзья, края, часть II, стр. 61; друзьям, нам, там же; друзей, Цирцей, там же, стр. 79.
Я не стихотворец; сам не знаю меры содеянного проступка, а поэтам-друзьям своим не совсем доверяю. Дружба может ввесть их в заблуждение, и потому, несмотря на их доводы, не смею совершенно оправдываться; поспешность моя (с какой диктовал я и потом не сверил) исказила бессмертные стихи того поэта, о котором один наш стихотворец справедливо сказал:
А ты, в венце из роз и с прадедовской чашей
Певец веселия и бедствий жизни нашей,
Роскошный Батюшков! пленительный твой дар,
Любви, поэзии, вина и славы жар,
Овидий сладостный, любимец муз Гораций,
Анакреон и ты, вы веруете в граций:
И девы чистые беседуют с тобой
На берегах Невы, под тенью лип густой,
И роза пышная на льду при них алеет,
И обрывать ее косматый мраз не смеет,
И солнце яркое с безоблачных небес
Зимою нежиться зовет в прохладный лес.
У Тасса взял ты жезл Армиды чудотворный,
И гордый наш язык, всегда тебе покорный,
П.П.
Волшебник! под твоим пером роскошен, жив.
Затейлив, сладостен, и легок, и шутлив,
Рисуя нам любви и муку, и блаженство:
Прелестный, пламенный твой слог есть совершенство44.
Признавшись в вине моей, мне осталось поблагодарить не подписавшего своего имени сочинителя письма, который, судя по ревности, с какой защищает честь великого писателя, сам должен быть знаменитым поэтом, и, конечно, кроме незабвенной перевозки восьми стихов из Неаполя, оказал важные услуги российской поэзии: он поступил со мной довольно вежливо, и я счастлив, что он, а не другой кто пожурил меня. Я бы мог попасться в руки к одному из тех немилосердных крикунов, которые, будучи больны желчью, все предметы видят в желтом цвете, или, что еще хуже, к тем, кои, страдая чернью (сплином), то есть охотой видеть все в черном цвете и выуча наизусть Лагарпа, как сорока Якова, перебранили и переценили все русское от поэмы до эпиграммы, хотя сами ни одной запятой не обогатили отечественной словесности. От таких людей брань нестерпима. П. К — в...»
И знаете ли, кто был этот литератор, которого Воейков трактовал так cavaliereiment? — Дмитрий Николаевич Блудов, сделавшийся из вздыхателей о плачевной судьбе бедной Лизы государственным сановником и законодателем, советовавшим в манифесте о Парижском трактате (1856) подданным русским по заключении мира «обратиться к самым невинным занятиям». Как бы хорошо было, если б он сам оставался всю жизнь при своих невинных занятиях, не нес вздору в Комитете министров и в Государственном совете, не сочинял донесения о смутах 14 дек. 1825 г., а читал и пописывал стишки. Когда подумаешь, что он подарил Россию становыми приставами! Блудов человек добрый, честный и благородный, много писал, еле помнит, но сам создать или рассудить ничего не в состоянии. Канкрин, говоря однажды со мною о Блудове, сказал: «Он человек приятный и говорит красно. Только нет у него здравого смыслу: в Совете какое-нибудь предложение, он начнет бранить: это-де глупо, вредно, опасно. А как дело пойдет на голоса, он согласится: принять».
Этот литературный спор может подать нынешнему и будущим поколениям литературы понятие о том, в каком райском положении невинности и незлобия была тогдашняя наша словесность. Неправильная редакция одного стишка волновала и раздражала писателей. И все это делалось из чистой, бескорыстной любви к словесности; правда, по внушению самолюбия и пристрастия к своей партии, но без всякого расчета на какую-либо выгоду. Но именно с того времени, с 1820 года, возникла в литературе нашей новая эра века не железного, а ассигнационного, продолжающегося ныне в форме кредитных билетов. Особенно содействовали этому два новые писателя — Воейков и антагонист его, Булгарин, имевшие последователями Сенковского, Краевского, Старчевского и всю братию литературных торгашей и барышников. Об этом надеюсь написать особую статью, а теперь ворочусь к Воейкову.
Сотрудничество его в «Сыне Отечества» продолжалось с половины 1820 до начала 1822 года. Обещанного им содействия других литераторов, как я сказал выше, не было.
В конце 1820 года занемогла великая княгиня Александра Федоровна и с великим князем отправилась в Берлин. Жуковский поехал с ними, присылал иногда стихи свои, но серьезно не принимал участия в журнале. Друзья его охладели к Воейкову, который успел насолить всем, ибо голос злобы и зависти был в нем сильнее расчета, выгод и пользы. Каким образом, спросят у меня, умел он еще держаться в свете при таком образе мыслей, при таких чувствах и поступках? Он обязан был всем существованием несравненной жене своей, прекрасной, умной, образованной и добрейшей Александре Андреевне, бывшей его мученицей, сделавшейся жертвой этого гнусного изверга. Всяк, кто знал ее, кто только приближался к ней, становился ее чтителем и другом. Благородная, братская к ней привязанность Жуковского, преданная бессмертию в посвящении «Светланы», известна всем. Потом первыми гостями ее были Александр Иванович Тургенев и Василий Алексеевич Перовский. Булгарин некоторое время сходил от нее с ума. Между тем все эти связи были чистые и святые и ограничивались благородной дружбой. Разумеется, в свете толковали не так: поносили ее, клеветали и лгали на нее. Такова судьба всех возвышенных людей среди уродов, с которыми они обречены жить. Женская зависть играла в этом не последнюю роль.
Воейков торговал и промышлял не прелестями, а кротостью своей жены. Например, приедет Александр Тургенев и идет, по обычаю, в ее кабинет. Двери заперты.
— Что это? — спрашивает он у Воейкова.
— Она заперлась, — отвечал Воейков, — плачет.
— Плачет?! О чем?
— Как о чем? В доме копейки нет, не на что обедатьзавтра. Заплачешь с горя.
— Пусти меня к ней.
— Не пущу; дай пятьсот рублей.
— Возьми!
Отпирают дверь кабинета. Тургенев находит Александру Андреевну действительно в слезах, но от огорчений, претерпенных ею от варвара-мужа.