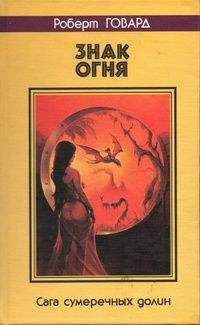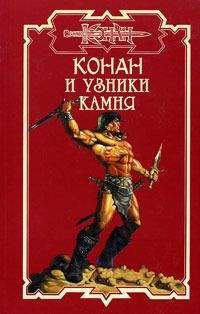Александр Трофимов - Сын башмачника. Андерсен
Всё это — в образах, которые потом множество раз перерождались. Сопрягались, отражали один другой. Видоизменялись. Жили своей жизнью в сознании сказочника и откликались на любой лучик жизни. У сказочника только бытие — у него нет бы та. Быт есть для нас с вами. Всякий быт в сознании сказочника чудесным образом унижается, деградирует, покоряется фантазии и оживает особенным бытием... Сказочник обогащает жизнь отсутствием быта в нашем понимании. Он переполняет быт бытием. И это помогает избежать обид, пошлостей. Уменьшить их убойную для сердца сказочника силу.
Одни и те же герои — ведро, ведьма, эльф, галстук, пятеро из одного стручка, розы во всех их могущественных проявлениях — являются действующими лицами то трагедии, то комедии, то фарса, то оперетки. Они способны сотворить стихотворение.
Или — питаясь анекдотом — новое платье короля становится главным действующим лицом сказки, хотя не произносит ни одного слова, а с философским спокойствием взирает на обманщиков в свите короля. Эмоции живут и в заборе, и в мостовой. Трагически переживает жизнь гадкий утёнок. И страдания его ничуть не меньше, чем страдания Оливера Твиста.
Андерсен не просто любил природу, она была частью его жизни. Больше всего он любил залитые солнцем большие лужайки в лесу, пасущихся оленей и лосей.
Он был по природе своей созерцателем, и природа надиктовывала ему свои таинственные мысли, которые он благородно превращал в сказки. Он мог написать сказку о любом предмете, который он видел, но он подолгу ждал, пока вещь, или утёнок, или лебедь, или бутылочное горло сами захотят рассказать ему сказку, он с уважением относился к их самостоятельности и никогда не тревожил вещи маленькими мыслями. Он чувствовал их, а они его — и так рождалось чувство доверия, подарившее перу столько волшебных признаний. В сущности, это даже и не сказки, а жизнь и страдания вещей, зверей, птиц, насекомых...
Мир вокруг требовал словесного воплощения, чтобы прописаться в человеческой жизни. Стихи уже не давали ему ощущения глубины проникновения в жизнь, появилась причина написания сказок и необходимость немедленно высказаться.
Сказки — стали его своеобразным дневником, который он посмел напечатать при жизни. Он не сразу понял, что это — именно дневник. И не сам. Эрстед объяснил ему:
— Милый Андерсен, вы не понимаете значения своих сказок! Сказки ваши — суть ваши дневники, они избавляют вас от страдания и одиночества, которые, скапливаясь, становятся чудесными клубнями, из которых произрастают ваши сказки как чудесные тюльпаны.
— Мои сказки — суть дневники? — удивился начинающий сказочник.
— Именно так, — проговорил, улыбаясь, Эрстед. — Мой брат, когда я дал ему прочитать вашу рукописную сказку «Цветы для маленькой Иды», так и сказал: сколько же должен был выстрадать этот молодой ещё человек, чтобы написать такую сказку.
Андерсен внимал его словам с искренним удивлением. Он ни на миг не сомневался сейчас, в первые мгновения его слов, что Эрстед не прав, но весь предыдущий опыт общения с ним, вся их небольшая ещё, но такая глубокая дружба повествовали о том, что Эрстед всегда прав. Нет, не всегда, почти всегда, раз он так неправильно судит о его сказках.
— Вижу недоумение на вашем лице, дорогой друг, — иногда Эрстед переходил на возвышенный тон, сам не отдавая в этом отчёта, — поверьте, ваши сказки имеют, по крайней мере, такое же значение, что и ваш роман, столь благожелательно принятый читателем. Но роман ваш — только для взрослых. Сказки же ваши станут дороги не только детям, но и взрослым.
— Мне трудно вам поверить.
— А вы поверьте, как верили моим советам при создании «Импровизатора». Просто поверьте и постарайтесь творить с верою в душе.
— Я всегда творю с верой.
— Вы творите с верой с большой буквы, но верьте ещё и в себя, в свой талант, в своё знание жизни, которого у вас предостаточно, по крайней мере, куда больше, чем у всех ваших критиков, — и он улыбнулся доброй милой улыбкой, смягчающей возможное возражение.
— Я просто растерялся от ваших слов, — смутился Андерсен. — Меня интересуют сказки, но не настолько, чтобы я отдавал им предпочтение перед своими романами. Мне бы хотелось заполнить сказками промежуток между романами. Это совсем новый жанр для меня. Но я слышал в детстве очень много сказок, я впитал их всем сердцем и надеюсь, что у меня что-нибудь получится и в литературной сказке. Ведь сейчас собирают фольклор. Иногда мне кажется, что он весь в моей голове. — И он постучал пальцем по лобной кости.
— Звук, достойный сказки, — пошутил Эрстед.
— Сказка, достойная звука, — отпарировал Андерсен чисто дружески. Его душа была обнажена перед Эрстедом: тот относился к немногим людям, мнению которых Андерсен доверял полностью. Аналитический, научный ум Эрстеда помогал направить романтический поток андерсеновских образов в строгое русло сюжета, поэтому Андерсен часто советовался с ним, готовя свой первый сборник сказок, относясь к нему не столь серьёзно, как к своим романам.
— Одновременно я работаю над романом «О. Т.».
— Я уверен — Оденсейская Тюрьма — так расшифровываются ваши буквы.
— Именно так, — Андерсен улыбнулся той наивной улыбкой, которая разоружала даже его откровенных недоброжелателей.
— Вы настолько же автобиографичны в сказках, как в романах, — это нетрудно определить, — заметил Эрстед.
Андерсен растерялся, а всегда, когда чувства его разъезжались в разные стороны, ему казалось, что глаза покинут орбиты и навсегда вылетят из родного гнезда в поисках более интересных сюжетов, чем те, что могла подарить его жизнь. Глаза ещё до нашей жизни привыкают к небесам, и так трудно им привыкнуть к высоте человека, на которого даже деревья смотрят свысока...
Андерсен вспомнил сказку «Мертвец». Её тоже придётся со временем переделать. Переписать. Передумать. Перечувствовать. Пережить... Он всплыл со дна его памяти, этот мертвец и плыл к нему. Андерсен так ясно представил его, что даже вздрогнул от испуга. Это чувство в полной явственности того, что представлялось ему, уже всё чаще посещало его, как бы даже и преследовало. Он не то, что не мог от него избавиться, но уже даже и понял, что избавиться от него невозможно, немыслимо и всё чаще жил среди своих образов столь же реально, как среди Эрстедов, Коллинов, Вульфов...
Он не пытался анализировать свои чувства. Он наслаждался ими в большей степени, чем пытался их анализировать... Он следовал в своих творениях законам чувств, а не правилам логики.