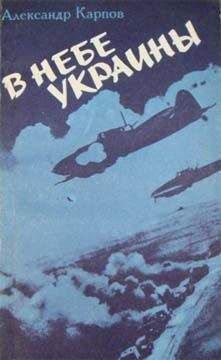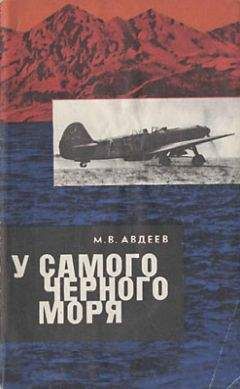Алан Кубатиев - Джойс
Джим».
Джойс не напрасно волновался о безопасности Норы и детей. Как раз в те дни началась гражданская война между правительственными войсками и ИРА. Джорджо признавался потом, что не спал все это время, боясь, что «зулусы» вытащат их из дома и расстреляют. И в дом Хили ворвались солдаты, заняли огневую позицию в комнатах второго этажа, где разместили гостей, и поставили в окнах пулеметы: напротив были склады, где засели мятежники. Детей смертельно напугал пьяный офицер, назвавший Джорджо «жельтменским сынком». Норе было уже не до претензий к мужу: надо было срочно выбираться из Голуэя. Джойс, узнавший о событиях, предложил арендовать самолет и прилететь за ними. От этого проекта пришлось отказаться лишь потому, что Нора не хотела ждать.
Поездом они добрались до Дублина и как раз по пути попали в перестрелку; били с обеих сторон, из окопов, отрытых вдоль линии. Нора и Лючия кинулись на пол, а побледневший Джорджо гордо оставался на сиденье. Рядом так же невозмутимо курил трубку старик-ирландец, который спросил:
— Ты что, не ляжешь?
— Нет.
— И правильно, — сказал старик. — Они все равно никогда толком не целятся. Наверное, лупят холостыми.
Никто не пострадал. Рассказ о путешествии под пулями стал частью семейных преданий. Однако Майкл Хили купил им в тот же вечер билеты на пароход из Холихеда и отправил в Париж. Возможно, это был единственный раз, когда Джойс одобрил ирландские междоусобицы — они вернули ему жену и детей. К тому же испуганная Нора притихла и почти не затевала ссор. Джойс же мгновенно высчитал, что все это было затеяно и нацелено лично против него. И как его ни уговаривали близкие и друзья, он неколебимо в это верил. Тем не менее он сам собрался в путешествие и в мае уже почти решил ехать в Лондон. Ирит решил иначе. Серьезное обострение вынудило Джойса немедленно обратиться к известному офтальмологу Виктору Мораксу. Ему Джойс рассказал, что простудил глаза в пьяной ночевке в канаве еще в 1910-м. Еще он приобрел острейший артрит правого плеча, почти атрофировавший его дельтовидную мышцу. Первая операция, сделанная в 1917 году, была успешной, хотя зрение все равно ухудшилось, включая и левый глаз. Моракс провел консервативное лечение, но кровоизлияние не прекращалось, обострилась глаукома с нестерпимыми болями. Джойс позвонил Мораксу.
Доктор не мог приехать сам и прислал ассистента, Пьера Мериго де Трени, оказать первую помощь. За дверью молодой медик увидел квартиру, где царил чудовищный беспорядок. Стояли открытые и полувыпотрошенные чемоданы. Повсюду валялась одежда. На стульях лежали бритвы, зубные щетки, полотенца, косметика. То же самое заполняло столы и каминную полку. Посередине на корточках сидел человек в черных очках, укутанный в одеяло. Перед ним была миска, полная куриных костей, и полупустая бутылка вина. Рядом в той же позе сидела женщина и пыталась заглянуть ему в глаза.
Пьер не нашел свободного стула и тоже уселся на корточки, чтобы осмотреть Джойса. Лекарство, прописанное им, сняло боли на несколько дней. Но когда его срочно вызвали во второй раз, он предупредил, что вторая операция, скорее всего, неизбежна. Джойс возненавидел милого, честного Мериго де Трени и попросил Моракса больше его не присылать. Встревоженный Моракс долго беседовал с ним и понял, что дело не в ассистенте: писатель так боялся операции и особенно послеоперационных страданий, что, как туземный вождь, казнил принесшего дурную весть.
Проявились и другие проблемы. Эзра Паунд привел к Джойсу своего знакомого американского врача, чтобы тот осмотрел его больную спину. Оказалось, что и зубы пациента в таком состоянии, что нужны немедленный рентген и лечение. Но Джойс решил отложить лечение до возвращения из Лондона, потому что оно оттянуло бы всё на неопределенный срок, и в августе вместе с Норой пересек, Ла-Манш. Детей отправили в летние лагеря — Джорджо в австрийский Тироль, Лючию на берег Нормандии.
Отель «Юстон» издавна принимал транзитных постояльцев, остававшихся там на ночь и утром садившихся на поезд от Юстон-стейшн до Холихеда. Но Джойсу разрешили задержаться там и подольше вкусить дары почти родной земли — «английских завтраков, то есть датского бекона, ирландских яиц, американского сахара, французского молока, канадского мармелада, шотландской овсянки, новозеландского масла, голландских тостов. Мистер И. Г. Найт, управляющий, встречал его каждое утро и желал ему „дбрдньмрнайт“. Очнь дбрй члвк». Так «Поминки по Финнегану» обзавелись новым персонажем, МрНайтом. Ночной портье «Юстона» понравился ему настолько, что он передал ему с Гербертом Корманом надписанный экземпляр «Улисса».
Впервые в жизни Джойс встретился с Гарриет Уивер. Разумеется, даже он восхищался ее стойкостью и самоотверженностью, но никаких уступок и перемен в своем поведении делать все равно не собирался. Не демонстрировал бережливости, дожидаясь автобуса, а брал такси и давал щедрые чаевые — строго говоря, пенсами и шиллингами мисс Уивер. Так за несколько недель было спущено больше двухсот фунтов. Она понимала, что его эскапады — зеркальное отражение ее сдержанности и строгости, поэтому никаких деликатных упреков не прозвучало. На вопрос, что он собирается писать дальше, Джойс ответил: «Думаю, историю мира».
Среди встреч с родственниками самым приятным оказался ужин с дочерьми тети Джозефины Мюррей, Кэтлин и Элис — они уже давно перебрались в Лондон, и Джойс пригласил их. По дороге в Сохо Джойс вдруг во всеуслышание заявил, что ему очень нужно сменить носки. Таксист сказал, что может занять их у приятеля, и действительно привез их Джойсу в ресторан. Джойс вернулся из вестибюля довольным. Все были рады. Но за столом он умудрился спросить, как их матушка оценила «Улисса».
Кэтлин сумела выдавить из себя:
— Э-э… Джим… ну, матушка сказала, это не годится для чтения…
— Если «Улисс» не годится для чтения, — сердито ответил Джойс, — жизнь не годится для жизни.
На следующий день опять заболели глаза. Известные лондонские офтальмологи, доктора Генри и Джеймс, ничем его не обрадовали. Жидкость в левом глазу перестала оттекать, и угроза глаукомы стала крайне серьезной. Операцию надо было делать немедленно. Джойс тут же отправился обратно в Париж, надеясь обойтись без хирургов и уехать в Ниццу, чтобы не страдать от мерзкой, сырой и промозглой парижской зимы. Удалось поменять опостылевшую квартиру на рю де ль’Университе и въехать в меблированные комнаты на авеню Шарль Флоке, 26.
Все хуже он выносил свет, движения, скопление людей, от этого немедленно начинались боли. Филиппу Супо он говорил, что любое время кажется ему поздним вечером. Как у многих слабовидящих, обострился слух — Джойс узнавал людей по голосам. Когда наконец вернулся знаменитый Луи Борш, он разрешил ему Ниццу, но при условии, что он там вырвет все зубы и по возвращении ляжет на операцию — не на сетчатке, а на окологлазных мышцах. Опасность глаукомы он счел преувеличенной, но допускал, что это ее форма: та, от которой мог ослепнуть Гомер.