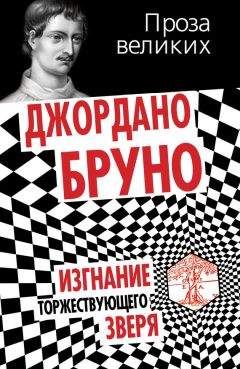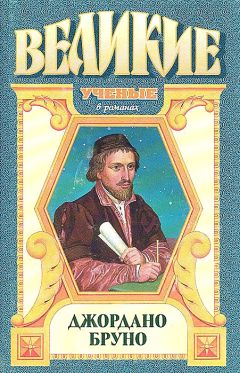Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
— Да что уж теперь? — развел руками тот. — На свой страх и риск работать буду… Может, лицензию мне справите?
— А у вас ее до сих пор не было?! — и Рене похолодела, подумав о том, что им грозило, если б его задержали за незаконную торговлю. Она обещала помочь. Яков попросил людей из Центросоюза, те внесли их недавнего сотрудника в списки, дающие право на торговлю, дали патент, и теперь он, когда бояться было уже нечего, начал работать с надежным прикрытием…
К концу года Рене забеременела: Яков был неосторожным и чересчур страстным любовником. Это было безусловно лишнее, она колебалась и не знала, что делать. Яков, узнав о беременности, решил неожиданно и по-своему: он сказал, что ребенок не помешает, а будет работать на конспирацию. Она так хотела ребенка, что готова была на любое его оправдание, — тем более исходящее от другой заинтересованной стороны и одновременно ее начальства, — и с облегчением оставила себе уже полюбившегося ей младенца. Дальнейший ход событий опроверг замысел руководителя: ребенок не успел помочь им в деле, но план этот, видимо, изначально был порочен: нельзя вовлекать детей в военные действия, а для Якова и любовь и рождение ребенка были лишь частью мировой революции.
Между тем он вскоре начал испытывать сомнения, и немалые. Поддавшись великодушному порыву, он быстро понял, что ребенок принесет с собой не одни только конспиративные преимущества, но и ощутимые тяготы и нагрузки: как бы не пришлось ему, советскому резиденту в Шанхае, стирать и гладить пеленки — Рене была вконец загружена работой, и никто бы не стал освобождать ее от ее обязанностей. Менять свои решения он не хотел: не любил терять лица, как говорили китайцы, — тем более что сроки прерывания беременности вышли — но вдруг охладел и стал хуже относиться к жене, будто она была единственной виновницей всего происшедшего. Он стал безразличнее к ней как к женщине и в то же время начал ревновать ее; нежная любовь сменилась колючим недоверием: он подозревал не то ее, не то не родившегося еще ребенка, которого хотел бы спровадить на сторону…
Но прежде был, как водится, политический конфликт, многое решивший в их отношениях: спор из-за Франции, за положением в которой Рене следила со всей пылкостью первой любви и молодости.
— Что Франция? — шутил он и прежде, когда отношения их были безоблачными. — Там ничего не решается. Страна пошлых рантье и беззубых политиков. Китай — другое дело. Или Австрия, где дело дошло до драки! — (В Вене в феврале в течение нескольких дней строились баррикады и шла война между рабочими бригадами и армией канцлера, сдавшего страну Гитлеру.) Она неизменно обижалась.
— Но это моя страна!.. И не такие уж они беззубые!
— Ну ладно! — шутливо, для видимости соглашался он. — Пусть будут зубастые. Если тебе это нравится… Акулы империализма!..
Но на этот раз все было серьезнее и чревато последствиями. Предыстория спора была такова. Французские социалисты и коммунисты под угрозой фашизма пошли на сближение: готовилась политика Народного фронта. В начале года было достигнуто соглашение между обеими партиями и радикалами о согласованности действий, в июле был подписан пакт о совместных выступлениях. На следующий день после этого, в двадцатую годовщину убийства Жореса (Вождь французских социалистов, пацифист и антимилитарист, убитый в канун первой мировой войны. — Примеч. авт.), состоялась огромная демонстрация, в которой участвовали все левые. Рене была от души рада этому, Яков же, по своему обыкновению, кривил рот в скептической улыбке и ни во что не ставил подобное единство.
— Но почему?! — добивалась она от него: они не были тогда в открытой ссоре, и она позволяла себе вольности. — В одиночку с фашизмом не справиться! В Германии все это уже было — и чем кончилось?!
— В Германии еще ничего не кончилось, — вопреки очевидности спорил он: он слишком любил эту страну, чтобы так скоро от нее отречься. — А с твоими социалистами можно только вымараться в дерьме — ничего другого ждать не приходится.
— Но почему?! — не понимала она. — Почему мы так ополчаемся против возможных союзников? — а Яков злился в таких случаях всерьез:
— Кто тебе сказал, что они наши союзники? — неприветливо спросил он и на этот раз. — Если ты так думаешь, значит, ты не понимаешь азов марксизма. По мне лучше прямые враги, чем гнилые союзники. Которые в последний момент сбегут с поля боя, оставив тебя неприкрытым! Спаси меня от друзей, а с врагами я как-нибудь сам справлюсь — так ведь говорится? Ты что, не понимаешь, что тот, кто однажды стал на стезю реформ, а не революции, никогда с нее не сойдет и будет всю жизнь пресмыкаться перед власть имущими! Хорошо еще, если скажет это прямо, как твой Дорио, который просто перебежал к фашистам и объявил об этом в открытую. А то будут болтать, говорить, философствовать — пока дело не дойдет до драки и тогда только обнаружат свою сущность!.. Публика-то известная!.. — и замолкал — не потому, что кончались слова, а потому что закипал от злости и у него дух перехватывало.
Дорио и в самом деле откололся со своими друзьями от коммунистов, стал публичным антисемитом и в своих речах симпатизировал Гитлеру: из двух зол выбрал ближнее. Рене была потрясена его изменой: она ожидала от него чего угодно, только не этого — но не преминула напомнить мужу:
— Он, между прочим, был не социалистом, а коммунистом.
Он поднял на нее тяжелый взгляд и проронил тяжко и весомо — как жерновами промолол:
— Значит, такие у вас коммунисты. А ты хочешь еще социалистов нам на шею повесить… Знаешь что, Элли? — Ему надоела полемика, где он чувствовал себя профессором, с которым спорит студентка, не слишком сведущая в его предмете. — Тебе надо начинать с азов. Чувствуется, что ты изучала марксизм неосновательно. Как это полагается делать каждому, кто хочет стать настоящим коммунистом. А не так — симпатизантом на французский манер.
Это было сказано со злым чувством и было явной несправедливостью — учитывая то, что она здесь делала, как рисковала и как на него вкалывала. Мог бы и вспомнить, что она беременна. Но политика для него была превыше всего, и он от нее вел отсчет всему прочему. (Особенно когда это было ему нужно или почему-то выгодно.) Она тогда ничего не сказала, но обиду затаила. А он и не думал извиняться или как-то сгладить впечатление от разговора: нарочно говорил грубо, чтобы показать выросшую между ними пропасть…
Он стал, как было сказано, открыто ревновать ее — будто политическая неблагонадежность неизбежно влекла за собой ненадежность иного рода. Может быть, она была отчасти виновата в его ревности, но если она и изменяла ему, то, конечно, не телом, а душою, начавшей грустить и тосковать по обычным человеческим радостям…