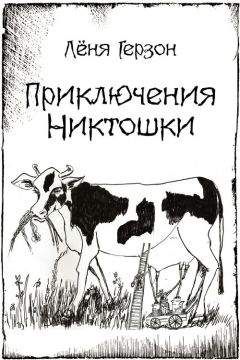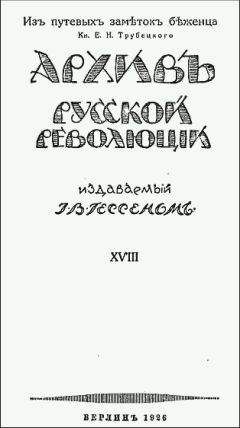Эрнст Саломон - Вне закона
Но растворялась ли эта скованная неподвижность на самом деле? Да, она расслаблялась, но она переходила не в радость, она переходила в движение, в дрожащее, спешное, нервное движение, как будто я больше не должен был пропустить ни секунды, как будто каждое мгновение теперь стало важным, несло в себе разнообразие мира, наполняло все мое бытие и не оставляло места для ясного ощущения и желания. Когда это было, что я уже стоял в этом огромном напряжении, что я переживал, переживал глубоко и интенсивно и, все же, не пришел к настоящему переживанию? Тогда, перед первым боем?
И потом я стоял в камере для освобождающихся, трепетно снял серую, противную одежду, надел белую, накрахмаленную, хрустящую рубашку, бросил тяжелые, обитые гвоздями деревянные башмаки о стену, провел ставшими внезапно мягкими и чувствительными кончиками пальцев по тонкому белью и чулкам, — воротник, жесткий и белоснежный, шелковый галстук, костюм из синего, хорошего, удобного материала, как он сидел на мне, как я распрямил сгорбленные плечи, как вдруг снова властно появлялась уверенность в себе, радость в одно мгновение! Я надел шляпу. Я поднял ставшие легкими ноги, я надел перчатки; новый чемодан с блестящими замками стоял у двери, которая раскрылась и освободила дорогу, дорогу к воротам…
Пять лет думал я о моменте, когда тяжелые ворота тюрьмы закроются за мной. Не должно ли это ударить меня как электрический ток? Не должен ли открыться мне мир, больше и великолепнее, чем я мог бы вынести это? Я хотел сохранить первую мысль на свободе, сохранить ее в себе до тех других ворот, которые однажды поглотят меня; первая мысль на свободе должна была содержать в себе всю сладость земли, в противном случае на свободе не стоило бы и жить…
Я стоял в темной подворотне. Заключенный, уборщик двора, прогромыхал ко мне в своих деревянных башмаках, ухмыльнулся и высоко поднял палец: — Переступай порог правой ногой, и больше не оглядывайся! Иначе ты вернешься! Я слабо улыбнулся. Охранник у ворот открыл железные створки двери, полоса бледного солнечного света осветила подворотню. Я взял тяжелый чемодан и вышел. Ворота с пронзительным звуком захлопнулись за мной. Я был свободен.
Я думал: «Успею ли я на поезд?» Это было моей первой мыслью на свободе.
Я шел по деревенской улице. Тяжелый чемодан лишал меня какой-либо формы. Мне казалось, как будто я всегда смотрел на эти низкие фахверковые дома с большими воротами. Ничто не было необычным. Несколько гусей с гоготом огибали угол, и деревенская улица была очень грязной. Разве солнце не светило? Я думаю, оно светило. Разве не пахло тут свежо и терпко, но зато больше совсем не затхло? Я думаю, это было как раз так. Разве крестьянка в широкой юбке не улыбнулась мне дружелюбно? Вероятно, но, вероятно, она также узнала отпущенного заключенного, и взгляд ее был проверяющим и недоверчивым. Я не знал этого. «Старина, проснись, ты свободен!» — стучало сердце по мозгу, но мозг сердито отвечал: «Да, да, это все прекрасно и хорошо, но поторопись, ты должен успеть на поезд!»
У окошка кассы вокзала я открыл синий конверт, который мне дали в канцелярии тюрьмы. В первый раз деньги снова были в моей руке, много денег, как я думал, это было почти двадцать марок, заработок за пять лет. Когда меня лишили воздуха и пространства, были другие деньги. Я смущенно рассматривал монеты, крутил их туда-сюда, серебряные деньги и желтые гроши. Мужчина в окошке дал мне билет; я с трудом подсчитывал, он сказал, мигая глазами: — Вы, похоже, не считали деньги там, откуда вы прибыли! Я очень покраснел, но был почти рад веселости мужчины в окошке, но все же искал из-за него себе пустое купе, когда прибыл поезд.
Я пришел из тесноты и оцепенелости. Долгие годы я видел только вертикальные линии, и мой взгляд упирался в стены. Небо стояло между решетками как кулиса, стена, неподвижная и недружелюбная. Немногочисленная зелень во дворе была пыльной, и пара в большинстве случаев лишенных листьев деревьев стояла перед серыми площадями. Окружающая среда была простой и однообразной. Каждая мелочь приобретала несоразмерное значение, так как только она прерывала прямые линии и разделяла площади. Так и человек становился примитивным, глухим, неэластичным. То, что нельзя было задушить из страстей и грез, приходило в долгие, бессонные ночи и жаждало простора, воздуха, структуры, горизонтальных, изогнутых линий, дрожащего, яркого света. Каким был лес? Крик многообразного! Как мог проноситься взгляд над мягкими склонами лугов! Как можно было дышать в свободном, широком, движущемся воздухе! Ландшафт во снах камеры был свободным и живым.
Теперь я сидел в поезде, и ландшафт демонстрировал мне себя в сменяющихся картинах. Я смотрел в окно. Справа стоял лес со стремящимися ввысь стволами. «Очень мило», думал я и жадно смотрел налево. Там тихо простиралось спокойное поле. И я, который за долгие годы изголодался по переживанию ландшафта, я вынул, чисто инстинктивно, из кармана газету, которую доктор дал мне еще в камере для освобождающихся, и читал. До тех пор, пока я не испугался и вскочил. До тех пор, пока я не скомкал газету и бросил в угол, и положил голову на деревянную скамью. Я был разочарован, и, все же, отчаяние представлялось мне плохо сыгранным спектаклем. Я не пришел к переживанию! Пять лет стоял я вне границ. Пять лет самая глухая, самая тривиальная, самая холодная буржуазность бездеятельно поджидала в засаде, чтобы в самый первый момент свободы наброситься на меня, удушая любое движение. Будни, стало быть, были сильнее, чем даже сильнее всего подстегиваемый человек! Я кричал себе, что мне нужно стать благоразумным. Но я не хотел быть благоразумным. Я не хотел быть благоразумным, тысяча чертей! Будь я проклят, если я стану благоразумным. Но не могла ли газета передать мне живую картину тех напирающих сил, которые определяли теперь жизнь? Я выбросил газету в окно, так как я боялся своей продажности.
Я с беспокойством жаждал первого столкновения с человеческими массами, тоскуя по движению, спешке, по множеству улиц и рынков. Поезд въехал на крытый перрон вокзала. Я бесчувственно протиснулся за заграждение и стоял на привокзальной площади. Я не был особо сконфужен, но чтобы наблюдать за подробностями я должен был исключить все мысли, должен был отказаться от всех сравнений, иначе я просто не справился бы. Огромное количество машин, движение, гонка и спешка, яркие рекламные сооружения, все это казалось мне, в принципе, знакомым, хотя пять лет назад такое нагромождение впечатлений не могло быть настолько мощным.
То, что пугало меня и навевало холод, это были люди. У них не было лиц! Или, вернее, у них всех было одно и то же лицо. Эти люди казались как бы закованными, они, кажется, не сознавали пространства и ширины. Они шли упрямо, безрадостно и без выражения, почти как машины, как хорошо начищенные, насыщенные, пыхтящие машины, дрожащие от жизненной силы, но отнюдь не живые. Они несли свою изысканную и элегантную одежду с потрясающей самоочевидностью. Они шли с уверенностью и без удивления — и я шел с ними. Я вписался в устремляющийся поток, и автоматически радость от того, что я хорошо одет, пропала у меня, и я знал, что на моем лице внезапно появилось то же самое холодное и деятельное выражение. Самым странным, однако, были женщины. У них не было ничего общего с женщинами из грез в камере. Их лица казались однообразными и голыми и были наполнены той же монотонностью, как и длинные, скучные ноги. Только маленькие складки, которые бросали светящиеся шелковые чулки на коленях, напоминали о беспорядочных мучениях камеры, так как только они казались живыми.