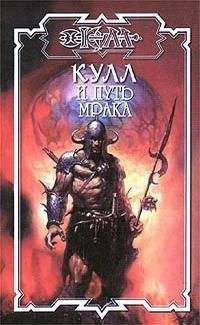Грэм Робб - Парижане. История приключений в Париже.
«Седловина Де-Кантоньер (Вар): придумана без каких-либо подтверждающих фактов ради рекламных целей. Противоречит статье 11.
Седловина Велотуристов (Савойя): неясная топография, придумана местными велосипедистами. Противоречит статье 11».
Оказалось, что вопрос о Парижской седловине обсуждался после того, как один из членов клуба, посетивший «археологическую крипту» собора Парижской Богоматери, заметил слова «седловина Ла-Шапель», написанные на рельефной карте древнего Парижа, еде-данной из папье-маше. Члены комитета сочли, что это недостаточное доказательство, и вопрос был закрыт. Президент клуба ответил на мое сообщение по электронной почте так же быстро и компетентно, как участвующий в гонке велосипедист объезжает выбоину: «Эта седловина не была внесена в список. Она не обозначена на карте и дорожным знаком на местности».
Его сообщение, по крайней мере, оставило проблеск надежды: «Эта седловина…» Ее существование не отрицалось впрямую. В таком случае следующим шагом логично было попытаться сделать так, чтобы эта седловина была обозначена на карте и был поставлен соответствующий дорожный знак.
Я написал в Государственный институт географии по электронной и обычной почте, приложив соответствующие координаты и некоторые факты, добытые в результате поисков в библиотеке. Оказалось, что в те времена, когда префекты Рамбюто и Осман заменяли темные узкие улицы залитыми светом бульварами, археолог по имени Теодор Вакёр, внешне напоминавший «постоянно завитого ежа», сопел над обломками, пытаясь составить мысленный образ Лютеции. Он нашел римский форум под улицей Суффло и римскую арену рядом с улицей Монж. Вакёр был археологом, а не писателем, но после его смерти в 1912 г. из его огромного архива записей и набросков неким географом был извлечен научный труд. Там впервые открылось существование «седловины Ла-Шапель». С той поры немногие географы (но не картографы), шагая по постепенно разгребаемому прошлому Парижа через докембрийские русла рек и холмы, еще хранящие влагу древних морей, написали об этой седловине, которая располагалась на доисторическом «оловянном пути» из Британии в Средиземноморье.
Прошли недели. То ли экспедиция к забытой седловине вышла из Винсенна и так и не вернулась, то ли мое письмо продолжило свой путь в макулатуру. Тем временем я написал мэру восемнадцатого округа и гражданским властям в Отель-де-Виль.
Спустя месяц пришло письмо из Государственного института географии. Оно подтвердило «географическое и топографическое существование» Парижской седловины – «самой низшей точки между Бют-Монмартром и Бют-Шомоном». Однако «до настоящего времени», продолжал поддразнивать автор, эта седловина так и не появилась на карте по двум причинам: во-первых, «городская застройка очень густа в этом районе»; во-вторых, «ее название не используется местными жителями». Другими словами, на карте было уже слишком много географических названий, и, если исследователь придет в Ла-Шапель с вопросом о седловине, на него будут озадаченно смотреть (если только, конечно, он случайно не обратится к географу или человеку, который написал историю прихода).
Я тщетно ждал ответов от муниципальных чиновников, которые могли не разделять картографической щепетильности Государственного института географии. Но к тому времени это, казалось, не имело значения. Оцинкованный знак для обозначения седловины, воткнутый в асфальт Ла-Шапель, стал бы просто своеобразным поводом для задержки, возможностью для велибистов сделать фото на память чуть более долговечной формой граффити – при условии, что можно было бы найти для него место среди других отрезвляющих утверждений городской жизни: «Проход запрещен», «Конец туристической зоны», «Нет права приоритетного проезда» и др.
Кое-что было всегда очевидно: город, построенный людьми, равнодушен к их желаниям. Он демонстрирует им в монолитной форме их выдумки, россказни о близких отношениях и славе, любви и вечной гордыне, легенды и истории, которые знал только один человек или которые заставили целые поколения верить в них. Он убеждает даже самых успешных людей, страдающих манией величия, в незначительности их мечты. Париж показывает свое истинное лицо с вершины башни Монпарнас, где охрана патрулирует вдоль ограждения от самоубийц. Большая часть этой галактики рассеивает вокруг себя свет, достигающий в темноте горизонта во всех направлениях.
Каждый существующий город – это древнее захоронение, осадочная гора, оставшаяся после всех поколений людей, мигрировавших вниз, в почву. Короли, королевы и императоры – всего лишь его слуги. Они помогают ему стереть даже саму возможность памяти. Памятники, возведенные Наполеоном III, предали забвению акры истории. Бульвар, названный в честь сражения, изгладил из памяти напоминания о миллионе жизней, а в конце правления Наполеона государственные архивы сгорели.
В восьми тысячах километров от Парижа, на острове в Южной Атлантике, Наполеон Бонапарт мечтал о том, что он мог бы сделать, «имей на это лишь двадцать лет и немного свободного времени». В глазах прозорливого изгнанника Париж был державой, которую он держал в своей руке. Если бы только время было на его стороне, старый город исчез бы: «Вы напрасно искали бы его. Не осталось бы и следа».
На острове Святой Елены Наполеон тщательно перебирал свое прошлое: швартовка речного судна под башнями Иль-де-ла-Сите, толпы народа, наводнившие узкие улицы, военная академия Эколь милитер и Пале-Рояль. Он вспомнил один день в ужасном 1792 г. Тревожно звонили колокола, и стали распространяться слухи о большом бунте. Оборванная армия выплеснулась из предместий и направилась в Тюильри. Он покинул гостиницу на улице Мэль и направился в квартал трущоб и разрушенных особняков между Лувром и площадью Карусель. Опасная шайка головорезов шла, выставляя напоказ голову, насаженную на пику. Заметив молодого капитана с чистыми руками в выстиранной и отглаженной одежде, они потребовали, чтобы он закричал: «Да здравствует народ!» «Что, как вы понимаете, я поспешил сделать».
Он направился на площадь Карусель, где зашел в дом друга. Дом был превращен в подобие склада: он был набит имуществом аристократов, которые бежали из страны, взяв те немногие деньги, которые им были предложены за их мебель, безделушки и семейные портреты. Он пробрался наверх через обломки уходящего мира и выглянул из окна: толпа штурмовала дворец Тюильри, безжалостно расправляясь с гвардейцами-швейцарцами. Из этого окна, словно с театрального балкона, он своими глазами видел конец французской монархии. Спустя годы, по вечерам, когда император, изменив внешность, бродил по парижским улицам, подслушивая, изучая лица парижан в поисках путеводной нити в мир, который создавал, он искал тот дом, в котором столько истории произошло у него на глазах. Но его распоряжение провести реконструкцию того квартала было так скоро исполнено и «произошло так много крупных изменений, что я никогда не смог найти его».


![Элизабет Ленхард - Свидание со смертью[Date With Death]](/uploads/posts/books/68879/68879.jpg)