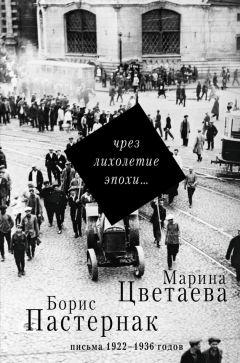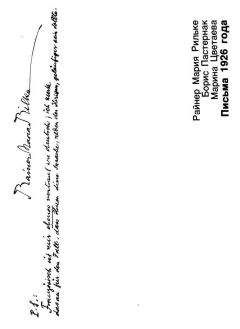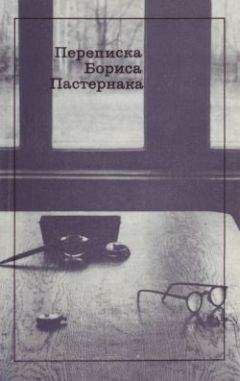Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис Леонидович
Ты же мне простишь, если я без таких комплиментов понадеюсь, что этот тон перевода будет тебе приятен, если я только достиг его.
Не пиши мне о «протестах», рифмовке иных мест и прочем. Я не о lapsus’ax говорю, их там куча. Но и они могли быть уместны, если старчески-детский замысел осуществлен, если это грешневая или манная каша, которой надо съесть полную тарелку.
Во всяком случае, крупа превосходная, как бы плохо я ее ни сварил. Я говорю об авторе. Как слабо я его ни перевел – содержанье, мысль, компоновка, члененье частей и их настроенье – его и были бы сохранены и сквозь языковое сниженье. Но, думается мне, он сам поднимал меня.
Там много очень близкого тебе, со многих сторон. Нравственный лапидаризм, натуральное ницшеанство, горы, природа. Не чужд он был, конечно, и мне.
Ну вот, письмо получилось длинное.
Сейчас Ася звонила. Я было хотел уже запечатывать и посылать, да вдруг узнаю, что у тебя адрес новый. А открытки твоей с адресом Ася в минуту найти не могла и на днях сообщит мне. Опять судьба письму лежать. Но теперь это меня не так беспокоит, п.ч. от Аси узнал, что вы живы все. И я, пока. Удивительно это, и не знаешь, как благодарить… Всего лучшего, тебе и твоим.
Письмо 196
2 ноября 1934 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина! Около двух недель назад я написал письмо тебе, запечатал и думал было отправить, но узнал вдруг от Аси, что у вас новый адрес. Ася обещала его найти, но, видимо, далеко куда-то заложила. Сегодня Ел<изавета> Як<овлевна>, которой я за этим позвонил, обещала прислать его в письме. Мне жалко, что письмо так долго валяется, я бы, может быть, уже ответ от тебя имел. «Змеееда» все-таки пошлю, хотя он восторга в друзьях не вызывает. Самые преданные и робкие люди краснеют, когда я их о нем спрашиваю, и не знают, что ответить. Лучше бы вы свое писали, – говорят, чем переводить. Но не в этом дело. Письмо утеряло значенье. Я его легко и наспех писал, думал, ты через 5 дней прочтешь, а теперь. Получилась какая-то забальзамированная болтовня… Чем болел Мур? Мне Ел. Як. писала. Мне бы надо куда-нибудь на год, на два скрыться, а то тут ни жить, ни работать не дают. У нас как-то по-детски или по-американски ко всему относятся. Вдруг какое-то неумеренное, вздорное, разгоряченное вниманье. Теперь только мне открылось, что я ничего не сделал и нечего показать. Ты одна бы только поняла меня. Горячий привет Сергею Яковлевичу.
Письмо 197
<июль 1935 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Б<орис>, я теперь поняла: поэту нужна красавица, т. е. без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et se prête а toutes les formes [169]. Такой же абсолют – в мире зрительном, как поэт – в мире незримом. Остальное всё у него уже есть.
У тебя, напр<имер>, уже есть вся я, без всякой моей любви направленная на тебя, тебе экстериоризировать меня – не нужно, п.ч. я все-таки окажусь внутри тебя, а не вне, т. е. тобою, а не «мною», а тебе нужно любить – другое: чужое любить.
И я дура была, что любила тебя столько лет напролом.
Но мое дело – другое, Борис. Женщине – да еще малокрасивой, с печатью особости, как я, и не совсем уже молодой – унизительно любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок. Я бы хотела бы – не могла. Раз в жизни, или два? – я любила необычайно красивого человека, но тут же возвела его в ангелы.
Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу (невстречу), а я – очень глупа.
Логически: что́ ты мог другого, как не звать меня <оборвано>. Раз ты сам не только в ней живешь, но в нее рвешься. Ты давал мне лучшее, что́ у тебя есть. Но под всеми твоими навязанными в любовь бабами – была другая правда: и ты со мной был – по одну сторону спорящего стола.
Я защищала право человека на уединение – не в комнате, для писательской работы, а – в мире, и с этого места не сойду.
Ты мне предлагал faire sans dire [170], я же всегда за – dire [171], к<отор>ое и есть faire: [172]задира этого дела!
Вы мне – массы, я – страждущие единицы. Если массы вправе самоутверждаться – то почему же не вправе – единица? Ведь «les petites bêtes ne mangent pas les grandes» [173] – и я не о капиталах говорю.
Я вправе, живя раз и час, не знать, что́ такое К<олхо>зы, так же как К<олхо>зы не знают – что́ такое – я. Равенство – так равенство.
Мне интересно всё, что было интересно Паскалю, и не интересно всё, что было ему не интересно. Я не виновата, что я так правдива, ничего не сто́ило бы на вопрос: – Вы интересуетесь будущим народа? ответить: – О, да. А я ответила: нет, п.ч. искренно не интересуюсь никаким и ничьим будущим, к<отор>ое для меня пустое (и угрожающее!) место.
Странная вещь: что ты меня не любишь – мне всё равно, а вот – только вспомню твои К<олхо>зы – и слёзы. (И сейчас пла́чу.)
Однажды, когда при мне про Микель-Анджело сказа<ли> бифштекс и мясник, я так же сразу заплакала – от нестерпимого унижения, что мне (кто я́, что́бы…) приходится «защищать» Микель-Анджело.
Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество, п.ч. все сто́ющие были одиноки, а я – самый меньший из них.
Мне стыдно защищать Микель-Анджело (одиночество) – оттого я и плачу.
Ты скажешь: гражданские чувства М<икель>-А<нджело>. У меня тоже были гражданские – т. е. героические – чувства, – чувство героя – т. е. гибели. – Не моя вина, что я не выношу идиллии, к к<отор>ой всё идет. Воспевать к<олхо>зы и з<аво>ды – то же самое, что счастливую любовь. Я не могу.
<Запись после письма:>
(Набросок письма карандашом, в книжку, на скворешной лестнице, в Фавьере, пока Мур спал. Письмо было лучше, но Б.П. конечно его не сберег.)
Письмо 198
<ок. 3 октября 1935 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Я жив еще, живу, хочу жить и – надо. Ты не можешь себе представить, ка́к тогда, и долго еще потом, мне было плохо. «Это» продолжалось около 5-ти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков 12 лет, я проехал, не повидав их; что вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостил Роллан с Майей, несмотря на их настоянья; что имея твои оттиски, я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагали, чуждой и смертельной, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступленья той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой неузнаваемой, никакой, непроглядной. Тогда бы только и могли прийти: родители, ты, Роллан, Париж и все остальное, – упущенное, уступленное, проплывшее мимо.
Может быть, это затянулось по моей вине. Больше еще чем участие врачей, требовалось участие времени. Я ему вредил своим нетерпеньем. Часть моих страхов и наблюдений оказывалась вдруг химерами. Но возникали новые. Это было похоже на узел с вещами, разваливающимися в спешке: подбираешь одно, ползет другое.
Это прекратилось лишь недавно, с переездом всех в город и моим возвращеньем к привычной обстановке. Я стал спать и занялся приведеньем здоровья в порядок. При одном из анализов выяснилась одна серьезная нескладица с желудком. У меня есть опасенье, – я не хочу его называть, послезавтра пойду на просвечиванье.