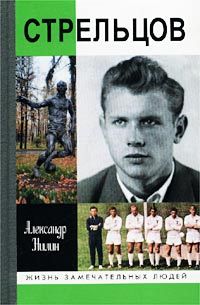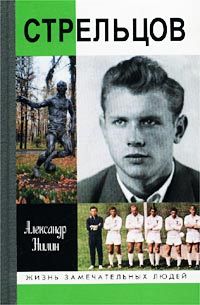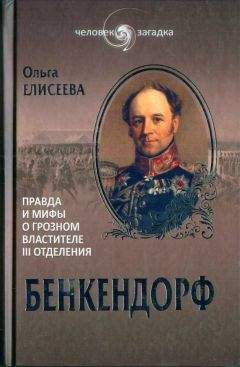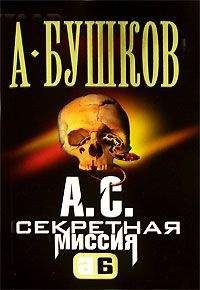Леонид Соболев - Капитальный ремонт
- Ничего этого не будет.
Юрий резко повернулся к нему.
- То есть как не будет?
- А так. Сядь и возвращайся к действительности. Помечтали - и за щеку.
Он налил рюмки и поднял свою.
- Выпьем, Юрий Петрович, за упокой души еще одного прожектика лейтенанта Ливитина... Скооль!
И он медленно стал цедить коньяк, после каждого глотка поднося маленькую рюмку к глазам и любуясь золотистой влагой, пронизанной солнцем. Юрий, не замечая, что уже сидит и тоже держит рюмку в руке, ошеломленно смотрел на него, пытаясь осмыслить сказанное. Спокойствие Николая казалось ему противоестественным и угрожающим: он ждал, что вот-вот произойдет нечто страшное.
Больше всего он боялся, что Николай зарыдает, - ему казалось, что тогда его собственное сердце не выдержит, раздавленное бедствием, размеры которого он отлично понимал. Слезы Николая он видел лишь однажды и страшился увидеть их вновь. Это было в майский, солнечный день в том старом сибирском городе, где они жили с тех пор, как отец вышел в отставку и вскоре после того умер. Юрий с утра расставил на полу свои многотрубные корабли, точно, по чертежам, склеенные из плотного ватмана Николаем для морских сражений, правила которых - хода, залпы, курсы - были разработаны им же. Решительный бой эскадр откладывался почти весь последний месяц - у Николая шли экзамены. В тот день Николай пришел из гимназии веселый, счастливый, сдав наконец последний, и уже открывал коробку с японскими броненосцами (русским флотом командовал, конечно, Юрий), когда через открытое окно донесся пронзительный голос мальчишки-газетчика: "Телеграммы с театра военных действий! Экстренный выпуск! Небывалое сражение в Цусимском проливе! Гибель всей русской эскадры! Экстренный выпуск!" Николай, побелев, уронил коробку и выбежал на улицу.
Он долго не возвращался, и Юрий нашел его в садике с газетным листком в руке. Он сидел и беззвучно плакал. Очень крупные слезы катились по искаженному душевной мукой лицу, порой громадный, неслыханный - в три-четыре приема - вздох бурной волной потрясал все его тело. Юрий взял листок, прочел - и заплакал тоже, так же по-мужски беззвучно. Вернувшись, они молча собрали бумажные кораблики, которые потом пожелтели и рассохлись в своих коробках, откуда их больше не вынимали: в тот день для Николая закончилась юность, для Юрия - детство. Никогда потом он не видел слез Николая - даже когда умерла мать.
Но теперь в этом слишком уж ироническом спокойствии Николая было что-то, что заставляло догадываться о силе тех отчаянно-безнадежных и беспомощно-мрачных чувств, какие он хотел скрыть под этой маской, и опасаться, что они могут вырваться наружу, подобно извержению вулкана, - уж очень много накопилось там, в недрах души...
Пауза затягивалась. Николай налил вторую рюмку и снова стал молча рассматривать ее на свет. И как ни был Юрий растерян и ошеломлен, он внезапно понял смысл своего присутствия здесь: ведь никому в мире, кроме него, Николай не мог бы довериться после своего крушения - разве лишь Ирине. Но Ирины не было, был только он, Юрий, - и ему надо было немедленно оборвать эту паузу, разбить опасное молчание. Надо было, что называется, "разговорить" Николая, дать ему отвести душу - в иронии, в брани, в гневе, в жалобе - в чем он хочет, только не оставлять в замкнутом самоотравительном молчании... Тогда, в садике, Юрий мог выразить свою беспомощную любовь к нему только тем, что рыдал вместе с ним. Теперь, повзрослев, он обязан был ему помочь.
И Юрий сказал первое, что пришло в голову:
- Что же, выходит - адмирал не разобрался в том, в чем разобрался гардемарин по первому году? Не возьму в толк, как он мог отклонить такой план?
Николай посмотрел на него серьезно, без тени напускного цинизма.
- Адмирал-то разобрался, насколько я понял. Но и адмиралу воли нет. Вот в чем беда, Юрча...
- То есть?
- Видишь ли, люди ходят под господом богом, а мы, флотские, - под Генмором... Да выпей ты рюмку, укрепи нервы, - перебил он себя. - Ишь тебя трясет! Похоже, не со мной жизнекрушение произошло, а с тобой... Ну скооль!
Юрий глотнул коньяк и поморщился.
- Значит, опять Генмор? - спросил он, торопливо наливая в чашку уже остывший кофе.
- А как же, - с нервной веселостью подтвердил Николай. - Все он, благодетель! Недреманное око, язви его в душу и в пятки, без него флотам ни ткнуть, ни дернуть...
И тут лейтенант произнес такой длинный и сложный акафист Генмору, что Юрий, несмотря на драматизм положения, внутренне усмехнулся. Во взаимоотношениях между собою братья избегали слишком сильных выражений, и сейчас Юрий впервые услышал от Николая флотские присловья и вполне оценил их силу. Это было покрепче и поостроумней заклинаний Чуфтина, главного боцмана "Авроры", который утреннюю приборку, где участвовали и матросы и гардемарины, начинал хриплой флотской ектеньей, неизменно добавляя по ее окончании: "Господ гардемарин не касается!" Лейтенантский акафист доказывал, что вулкан нашел кратер для извержения и что Юрий добился некоторого ослабления душевного напора, почему он поздравил себя с успехом.
Облегчившись таким образом, лейтенант тоже налил себе кофе и, сделав глоток, сказал:
- Жаждешь узнать, как протекали события? Изволь. Может, это научит тебя не подражать старшему брату.
И уже спокойнее, без едких острот и щеголяния архаическими словечками и оборотами, а так, как рассказывал когда-то Юрию о плавании Христофора Колумба или о Синопском бое - просто и дружески, - он начал рассказывать, что произошло утром.
Оказалось, адмирал принял Николая сразу же, как тот прибыл на "Рюрик", и сам заговорил об его проекте. Выяснилось, что еще вчера утром он запросил Либаву (она ближе к Килю, чем Гельсингфорс или Або) и показал список задержанных иностранных пароходов. Тут же он предложил отказаться от мысли разместить мины в трюме и посоветовал спрятать их на верхней палубе внутри штабелей леса. Тогда не нужно будет устраивать в корме полупортики для сбрасывания мин - рельсы можно уложить прямо на палубе, замаскировав их фальшивым настилом, что значительно сократит срок подготовки. И, наконец, он сказал, что матросов на пароход надо набирать из латышей, эстонцев, финнов и запретить им говорить по-русски, чтобы создать видимость иностранного судна. На просьбу Ливитина послать его "капитаном" лесовоза адмирал согласился. Словом, все шло так, что Николай чувствовал себя на седьмом, если не на десятом небе.
Но тут в дверях появился Бошнаков с изящным кожаным бюваром в руках и доложил о телеграмме от начальника Генерального морского штаба. Адмирал нетерпеливо раскрыл бювар, прочел короткую телеграмму, побагровел, встал, походил по каюте, потом вернулся к столу, еще раз перечитал телеграмму и буркнул Бошнакову, что он может идти. Тот заговорщицки подмигнул Ливитину выходит, мол, все-таки, что я кое-что сделал? - и вышел из каюты.