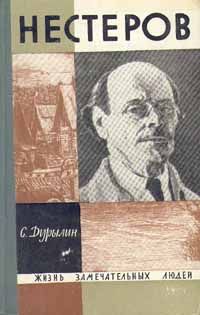Сергей Дурылин - Нестеров
Между первыми картинами Нестерова и портретом Щусева лежит больше полувека труда, их соединяет целая галерея картин и портретов, созданных в разное время, в различных условиях работы, но если б можно было написать биографию каждой картины и портрета, она бы включала общий для всех мотив: вдохновенной радости труда.
Нестеров любил цветуще сложную жизнь родного народа, уважал его творческую волю к новой жизни и оттого-то с такою радостью дал исход этому волевому устремлению на своих портретах, где любящей рукою запечатлены наши современники в красоте их вольнолюбивых мыслей, созидательных чувств и творческих деяний.
Нестеров в своих портретах оставил вековечный памятник своей эпохе и ее замечательным людям.
Пройдут годы, исчезнут все знавшие В. Васнецова лично, и все будут представлять себе автора «Аленушки» и «Богатырей» так, как явил нам Нестеров на портрете: найдено лицо – найдено все. Это такой же окончательный портрет Васнецова, как окончательны портреты Пушкина, писанные Кипренским и Тропининым.
Нет сомнения, так же окончательны портреты Нестерова, писанные с Павлова, Северцова, Мухиной и многих других современников.
Это потому, что, как Кипренский и Тропинин нашли и запечатлели у Пушкина то, что нам более всего дорого в нем, – великого поэта, – так Нестеров запечатлел в своих портретах то, в чем выражается истинное богатство личности наших современников, то, чем они дороги их родному народу, – их творческое лицо.
XI
«Природа моя была отзывчива на явления жизни, на людские поступки, но лишь Искусство было и есть моим истинным призванием. Вне его я себя не мыслю, оно множество раз спасало меня от ошибок, от увлечений».
Этими словами, написанными в июле 1940 года, Михаил Васильевич Нестеров как бы подвел итог своей жизни и определил тот единый внутренний стержень, на котором вращалась его жизнь, длившаяся восемьдесят лет.
Из них шестьдесят пять было отдано труду ради искусства.
Нестеров вступил на путь художника еще в те дни, когда Лев Толстой только что закончил свою «Анну Каренину», когда Достоевский писал и печатал своих «Братьев Карамазовых», когда Фет впервые начал зажигать свои «Вечерние огни», а Чехов еще не принимался за свои рассказы; Нестеров начал вслушиваться в мелодию краски и искать гармонию цвета еще тогда, когда Мусоргский продолжал работать над «Хованщиной», а Бородин – над «Князем Игорем», когда Римский-Корсаков успел написать лишь одну «Псковитянку», когда Чайковский еще писал «Онегина» и не был автором «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Нестеров взялся за кисть живописца еще тогда, когда доживали свой век старые «академики» времен Брюллова и Бруни, когда передвижники переживали еще весеннюю бурю своего протеста против старой академии, когда Репин и Поленов были еще молодыми художниками, когда Виктор Васнецов оставался еще правоверным жанристом, когда не существовало еще ни «Стрельцов», ни «Боярыни Морозовой» Сурикова.
Иначе сказать, Нестеров начал свою деятельность еще в классический период русского искусства и сам был последним классиком русской живописи. Перейдя за великий исторический рубеж, называемый Октябрьской революцией, пятидесятипятилетним человеком, с сорока годами художественной работы, Нестеров нашел в себе силы и творческую волю вновь «встать с веком наравне», сделаться, как свидетельствуют его портреты, классиком советской живописи.
Это произошло, конечно, потому, что в Нестерове был необычайно крепок тот стержень художника, вокруг которого, свободно подчиняясь ему, расположил все свои дни и годы, думы и влечения Нестеров-человек. Искусство действительно «было истинным призванием» Нестерова. Он еще смолоду почувствовал это всем своим существом и никогда не изменял, даже не соблазнялся изменить этому призванию.
Это не значит, что Нестеров был человеком только искусства, еще того менее – только художником, только живописцем.
Как раз наоборот. По его собственному, вполне верному определению, его природа «была отзывчива на явления жизни». И как отзывчива!
Он был наделен от природы вольным, глубоким жизненным дыханием, большим темпераментом, могучей жаждой жизни.
Узкая теоретичность, склонность к схемам, стремление вогнать жизнь в схему, опутать теоретическими тенетами человека были органически чужды Нестерову.
Он был вольнолюбив по природе. Свободный вздох и выдох своего «я» в чувстве, слове, деле были для него первым и важнейшим условием существования. В человеке Нестеров ценил не только его глубину – мысль и думу, он ценил в человеке и его широту: жизненный размах, раздельность желаний, силу влечений.
Вот отчего Нестеров так любил живопись Сурикова с его героями, охваченными буйством бытия. Вот отчего он так резко, с такой подчеркнутой иронией отстранялся от теории «непротивления злу» и так радовался, если в жизни, в творчестве Лев Толстой сам нарушал эту теорию. Вот отчего Нестеров с такою исключительностью ставил Пушкина превыше всех поэтов, русских и чужеземных: Пушкин был для него олицетворением гения жизни, символом ее неисчерпаемости, оправданием широты и глубины русского человека.
В жизни самого Нестерова вплоть до последних дней трепетал пульс увлечения, порыва, страсти. Страницы его жизни отмечены бурями не только весенними, но и осенними.
Но как бы ни был полон, говоря языком Лескова, «сбор всех страстей» в душе Нестерова-человека, в биографии Нестерова-художника нельзя указать не только страницы, но даже строки, которая была бы неверно написана, искривлена, смазана, зачеркнута под дыханием этих весенних, летних и осенних бурь, врывавшихся в мастерскую художника. В этом смысле биография Нестерова-художника глубоко своеобразна, целостна, неповторима.
Он умел подчинить свою жизнь велениям своего искусства. Житейская биография Нестерова с ее щедрым богатством чувств, устремлений и страстей была лишь подтекстом его творческой повести.
Независимость формы, внутренняя неприкосновенность, целостность содержания, полная свобода течений этой творческой повести всегда была для Нестерова верховной задачей в жизни. Он отдавал все силы на то, чтоб эта задача была решена верно, честно, до конца.
В 1935 году он написал в моем альбоме рисунок.
Тихая заводь большой северной реки. Вдали синеет лесами речной берег. Осень. Две тонкие березки еще хранят свое последнее золото и янтари. Рябинка, растеряв свои листочки, еще сберегла свои кораллы и сердолики. Кудрявится маленькая елочка. На пологом берегу доцветают в поблекшей траве последние цветы. Девушка в темно-синем сарафане, в белом платке сидит на траве – и ей