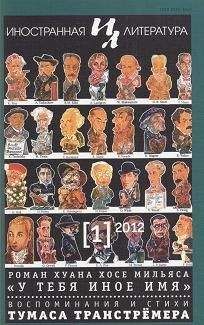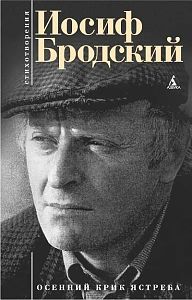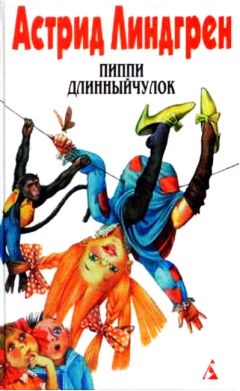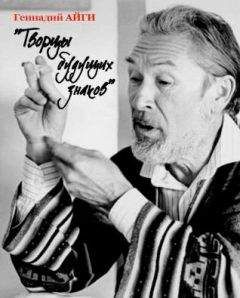Юрий Нагибин - Ты будешь жить
В общем, Тимка заметался, хотя на челе его высоком не отразилось ничего. Неожиданно быстро офицер прервал лишенную тепла встречу двух провалившихся шпионов.
Они долго шли по внутренним переходам, поднимались на лифте, спускались на лестничный пролет, опять подымались, шли дальше, и Тимка понял, что они покинули тюрьму и теперь двигались другим помещением, похожим на обычный офис. Вдоль коридора были расстелены синтетические ковровые дорожки, глушившие шаги, по правую руку широкие незашторенные окна позволяли видеть небо и городские крыши, по левую руку мелькали безликие двери кабинетов. Им попадались военные в черной форме и фуражках с низким козырьком и штатские, все как один в темных роговых очках. Что это — сигуранца или гестапо?. Тимка любил звучные, щекочущие нёбо слова: сигуранца, коза-ностра, абитуриент, гверильясы, аркебуза, Трокадеро…
Офицер толкнул дверь и сделал знак, чтобы он входил. В кабинете было три одинаковых письменных столика, три одинаковых шкафа с папками, на столах зачехленные пишущие машинки «Рейнметалл». За дальним столиком работала, низко склонившись над бумагами и уронив волну светлых, чуть завитых волос молодая женщина в черном кителе. Тимку пронзило какой-то больной нежностью — у Люды была такая же пепельно-золотистая копна. Женщина подняла голову, резким движением откинула волосы.
— Ну вот, явился не запылился. Чего рот-то открыл?..
…— Тут откроешь! — сказал я. — Она была раньше завербована?
— Ну да! Засыпалась еще в начале войны. И работала на немцев.
— А он что?
— Ничего. Хоронил мысленно женщину, которую успел полюбить и которой верил, как самому себе. Зато она проявила большую активность. Предлагала сохранить все как есть, только поменять службу. Уверяла, что очень привязалась к нему, не хотела бы его терять. Понимаешь, эту страницу своей биографии Тимка всегда пробегал скороговоркой. По-моему, тут у него так и не зарубцевалось. В общем, разговора у них не получилось. Тимку снова куда-то увезли. Едва отъехали, началась бомбежка. Машину опрокинуло, хрястнуло, Тимку выбросило наружу. Он был весь в крови, но ран глубоких не оказалось, посекло лицо, шею осколками стекла. Его спутники не подавали признаков жизни. Тимку перебинтовали прямо на улице, от госпиталя он отказался и, как библейский пророк, побрел неведомо куда. Уже на окраине он потерял сознание, а очнулся в постели, в доме каких-то пожилых людей. Он упал возле их крыльца, они подобрали его.
Хозяин, фельдшер на покое, заверил Тимку, что с ним все в порядке, просто он потерял много крови. Говорили хозяева на ломаном русском, и Тимку удивило, как догадались они о его национальности. Ты же помнишь, в нем не было ничего характерно русского: продолговатый череп, длинное узкое лицо, большой горбатый нос, бурые увядшие волосы, глаза цвета расплавленного олова. Он счел нужным сообщить этим милосердным людям, что он прямиком из Аргентины, торгует свежемороженым мясом. Старики попросили его не волноваться: если бежавшему из плена русскому хочется считаться аргентинским торговцем, пусть так и будет.
Поступок этих старых людей остался для Тимки какой-то щемящей тайной. Они выхаживали, как родного, солдата вражеской армии, зная, что рискуют жизнью. А ведь они скрывали не солдата — шпиона, и эта мысль была так невыносима, что, едва окрепнув, Тимка поспешил оставить гостеприимный дом. Он ушел ночью, когда хозяева спали, и поплелся к фронту, избегая больших дорог и обходя населенные пункты. Все эти предосторожности не помогли, он нарвался на немецкий патруль. Его приняли опять же за беглого пленного, в чем он «честно» признался, избили и отправили в лагерь.
Через три недели он бежал, добрался до прифронтовой полосы и был снова схвачен. Немцы погнали колонну беглецов в тыл. За спиной слышался гул нашей артиллерии, и Тимкой овладела такая тоска, так захотелось к своим, что он принял невероятное по смелости и беспощадности к себе решение. Надо действительно быть недоделанным, чтобы додуматься до такого. Он заметил, что конвойные пристреливают упавших, если те подают хоть слабые признаки жизни, в противном случае лишь пристукивают — для верности — прикладом по голове. Берегут пули, видать, с боеприпасами у них неважно.
На марше Тимка хватил кулаком по своему большому, хрящеватому, слабому носу, размазал кровь по лицу, шее и груди и грохнулся навзничь на дорогу, закатив глаза. Через несколько минут на взлобье обрушился страшный удар, и черепушка разлетелась на куски.
Очнулся он в темноте. Чтобы открыть глаза, ему пришлось выгрести липкую массу загустевшей крови из глазниц. Голова трещала и гудела, но кости были целы. Он отполз с дороги, смыл кровь вонючей водой из лужи и попытался встать. Это ему не удалось. Он заполз в кустарник, свернулся калачиком и заснул. Когда проснулся, то оказалось, что он лежит в десятке метров от шоссе в засохшем, насквозь просматриваемом шиповнике. Почему его не обнаружили — непонятно. Пешеходы на шоссе были редки, но воинские грузовики и легковушки проезжали то и дело. Ему так долго не везло, что должно же было наконец повезти.
Вскоре он убедился, что действительно попал в полосу удач. Пока он пробирался к фронту, его с десяток раз могли схватить. Раз он устроился на сеновале заброшенного сарая, куда завернул на ночлег немецкий отряд. Солдаты варили на костре кулеш, жрали, пили, горланили песни, играли в скат, потом спали впокат с храпом и свистом, под утро ушли. Остатки кулеша они вывалили на пол. Тимка выбрал куски баранины и съел их. Уходя из фельдшерского дома, он взял лишь две кукурузные лепешки да грудочку мамалыги, у них самих было не густо. Его мучил голод, но зайти в деревню и попросить еды он не решался.
Другой раз он чуть не напоролся… Слушай, ты помнишь у Шкловского, кажется, в «Zоо»: небо было такое же, как в рассказе А. П. Чехова «Степь». Я неточно цитирую, возможно, он привел другой рассказ, но ты понимаешь, что я имею в виду. Тимка выходил из плена, как бессчетное число героев нашей художественной литературы об Отечественной войне. Поэтому не будем тратить на это время, которого у нас с тобой осталось так мало.
Стоит сказать вот о чем: вблизи фронта в полумертвом от потери крови, усталости и голода бедолаге проснулся разведчик. Он стал фиксировать мнемоническим способом все, что могло представить интерес для нашего командования: долговременные огневые точки противника, заправочные, склады, скопления техники. Тимка шел к фронту, а фронт накатывался на него. Встреча состоялась без цветов и поцелуев: на последнем рывке его обстреляли и чужие и свои.
Цветов не было и потом. Он, видимо, исчерпал куцый лимит удачи. Первое, что он услышал, оказавшись среди своих и слегка отдышавшись, был радостный возглас молоденького бойца: