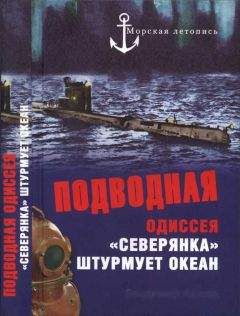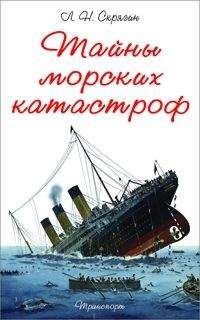Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
21 октября. Не выходил — немного горло. День сперва серый, потом с солнцем. Возился весь день — укладывался. Завтра Казанская, могут напиться — вся деревня варит самогонку — все может быть. Отвратительное, унизительное положение, жутко.
В языке и умах мужиков все спуталось. — Никто, впрочем, не верит в долготу этого «демократического рая».
В 1905 году поэты все писали стихи про кузнецов.
Читал отрывки из Ницше — как его обворовывают Андреев, Бальмонт и т. д. Рассказ Чулкова «Дама со змеей». Мерзкая смесь Гамсуна, Чехова и собственной глупости и бездарности. Как Сибирь, так «паузка», «пали» и т. д., еще «заимка»…
22 октября. Все бело от изморози. Чудеснейшее тихое солнечное утро. Звон.
«Забота» — Капри, 24 января — 6 февраля 1913 г.
Это ли не «Петлистые уши». <…>
Мужики и теперь твердят, что весь хлеб «везут» (кто? Неизвестно) немцам.
Радость жизни убита войной, революцией.
Как гадки Пшибышевский, Альтенберг!
Луна — зеркало солнца. Сердцевина мака черная.
Жизнь Фофанова — «сюжет для небольшого рассказа».
Одиннадцать часов утра. Коля напевает под пианино: «Жил был в Фуле…»
Нет, в людях все-таки много прекрасного!
30 октября. Москва, Поварская, 26.
Проснулся в восемь — тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко — удар из орудия. Минут через десять снова.
Эти слова относятся к месту рукописи, где был приклеен какой-то текст; он оторван (А. Б.).
Потом щелканье кнута — выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту — раз пять, десять. У Юлия тоже.
Горький, оказывается, уже давно (должно быть, с неделю) в Москве. Юлий мне сказал позавчера, что его видели в «Летучей мыши», — я не поверил. Вчера Вера говорила с Катериной Павловной, по телефону. Катерина Павловна — «обе стороны ждут подкреплений». Затем сказала, что Алексей Максимович у нее, что если я хочу с ним поговорить и т. д. <…>.
Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль — привез двух раненых. Одного я видел, — как его выносили — как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость. А Катерина Павловна пошла нынче в Думу (Вере нынче опять звонила) — она гласная, верно, идет разговор, как ликвидировать бой. Юлий сообщает, что Комитет общественного спасения послал четырех представителей на Николаевский вокзал для переговоров с четырьмя представителями Военно-революционного комитета — чтобы большевики сдали оружие, сдались. Кроме того, идут будто бы разговоры между представителями всех соц<иалистических> партий вкупе с большевиками, чтобы помириться на однородном социал<истическом> кабинете. Если это состоится, значит, большевики победили. Отчаяние! Все они одно. И тогда снова вот-вот скандалы, война и т. д. Выхода нет! Чуть не весь народ за «социльную революцию».
22-го — во втором часу пленный из Предтечева, верхом — громят Глотово[28]. Я ждал Казанской, многое убрал, — самогонка, праздник и слух о 20-м октября, о выступлении большевиков — все предвещало, что многое может быть. Через час — пьяный мужик из Предтечева: «Там все бьют, там громят, мельницу Селезневскую разнесли… Уезжайте скорее!» Цель — разносит слухи, оповещает всех, хотя прикидывается возмущенным, и кроме того всюду берет на водку. Мой рубль швырнул — «я тебе сам пять целковых дам!». Я заорал, он струсил, взял рубль. С двух с половиною дня до трех ночи я убирался, заснул <в> два часа, в пять встал, в семь выехали — я, Коля, Вера. Мишка и Антон сзади на телеге с вещами.
Туман, дорога вся в ухабах из застывшей грязи, лошади ужасные. До большой дороги была мука. Под Становой остановились, закусывали, баб тридцать из Кир и ловки, идут в Становую что-то получать (солдатки, кажется). Завязался разговор. Я выпил — иначе такой глупости не сделал бы. Злоба — «вы, буржуи, капиталисты, войну затеяли». Да, началось с насмешки над нами: «А плохо вам теперь!» Я сказал — «погоди, через месяц и вам будет плохо». — «А! вот как! Значит, ты знаешь! Почему же это нам будет плохо? Говори!» Я стал говорить как елецкий мещанин (плюс мой полушубок и весь наш вид жалкий). Подошел кто-то, что-то «товарищеское», хотя мужик (молодой)… (Ох! ужасный удар!) (Сейчас пять дня.) (Опять!) «Что? Плохо? Вы почему ж это знаете?» (Очень строго.) О, позор, о, жуткое чувство! (Опять удар.) Я вильнул — «через месяц Учредительное собрание» — собрал вожжи и поскорее ехать. Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком — тяжко! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко. Вечером (опять удар!) у нас гости, я говорил лишнее, — выпил. 24-е пробыли в Ельце. Отовсюду слухи о погромах имений. Вл<адимира> Сем<еновича> все Анненское разгромили. Жгут хлеб, скотину, свиней жарят и пьют самогонку. (Опять!) У Ростовцева всем павлинам голову свернули. (Опять!) 25-го выехали вместе с Б. П. Орловым. В вагоне в проходе — солдаты, солдат из Дамского весело и хорошо рассказывал, как Голицыны с тремя-четырьмя ингушами и попом (опять!) отбивались от мужиков и солдат. Голицына П. А. ранили. 26-го на Курском вокзале узнали, что в Москве готовят бинты, кареты скорой помощи и т. д. — будет бой с большевиками. Два извозчика — сорок рублей. 27-го был в городе — везде равнодушие — «а, вздор, это уже давно говорят». Какие-то два солдата мне (опять!) сказали, что начнется часов с семи. В пять — к Телешовым. Мимо трамвая — поп, народ, несли чудотворную икону. На углу Пречистенки бабы — «большевики стреляли в икону». От Телешовых благополучно дошли, хотя казалось, по городу уже шла стрельба. 28-го мы стрельбы почти не слыхали, выходили. Все было ожидание <…> Слухов — сотни (опять!). «Каледин диктатор, идет в Москву» и т. д. «Труд» (газетка Минора) врала, что в Петербурге все (о, ужас, какой удар, всего потрясло) кончено — большевики разбиты. Вчера уже нельзя было выходить — стрельба. Близко Александровское юнкерское училище. О сегодня я уже писал. С фронта никого, хотя поминутно слух — «Москва окружена (опять!) правительственными войсками» и т. д. Ясно, дело плохо, иначе давно бы пришли. Сейчас Вере сказали слух: «Железнодорожники согласились пропустить войска с фронта, если будет социалистический кабинет». У нас в вестибюле дежурство, двери на запоре, все жильцы и «дамы» целый день галдят, врут, женщины особенно. Много евреев, противных. Изнурился от безделья, ожиданья, что все кончится вот-вот, ожиданья громил, — того, что убьют, ограбят. Хлеба дают четверть фунта. А что на фронте? Что немцы? Боже, небывалое в мире зрелище — Россия!