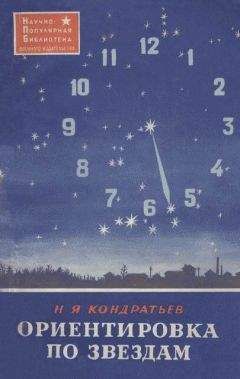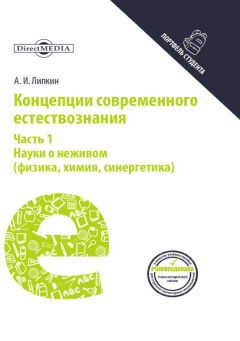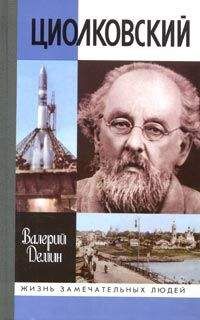Андрей Венков - Атаман Войска Донского Платов
Пришла в Атаманскую Канцелярию бумага от исправляющего должность Казанского коменданта подполковника Кушнарева о неблагопристойностях и нарушении богопочитания хорунжим Петром Кисляковым и казаками Матвеем Ковалевым, Сергеем Бояриновым и Савелием Кузнецовым.
В чем эти страшные прегрешения заключались, Алексей Иванович не доискивался, упросил знакомых чиновников бумаге, сколько будет возможно, ходу не давать и брату Андрею Ивановичу намекнул, что, мол, дело неладно.
Андрей Иванович по возвращении с линии командовал временно рабочим Ягодина полком и пытался повершить на крестьянку Авдотью Николаеву купчую крепость[170]. Сдал, наконец, полк сотнику Сафронову.
Последние полтора года — сплошное кружение. Как вернулся Петро со службы, у Кисляковых в курене жизни не стало. Да ее и раньше не было.
Из-за Авдотьи, твари распутной, непонятно от кого беременной, «насыпалась» на Андрея Ивановича жена, Марфа Петровна:
— Купил? Купил, дурак старый? С… сучку задрепанную… Ишо и судился из-за такого добра. Досудился, черти б тебя судили…
На Авдотью, смыкавшую немо губы, налетела:
— Чей дите?
Авдотья, истязаемая, молчала.
Петро, собиравшийся жениться (и невесту ему уже подобрали — Катерину, дочку сотника Климченкова), заранее, как только Марфа Петровна стала за девкой примечать, отказался. Ходил, посмеиваясь. Потерявшая голову Марфа взялась за Андрея Ивановича. Старому Кислякову подозрения такие льстили, но и от него толком ничего Марфа не добилась…
Месяца не прошло со свадьбы, и Петро, забирая с собой молодую жену Катерину, засобирался в очередь на службу — черт-те куда! — в Кубу, в мятежный Дагестан.
— Куды он ее повезет? На что?!
— Да на то! — снизошел Андрей Иванович. — На кого б подумала? Кто ж двоих… таких… в одной хате оставит?
— Продай! — вцепилась в него Марфа.
— Ага. И дите продать?
Все дерганые, бабы воют… Кое-как договорились. Командир из своих, из скородумовских, — Лютенсков, войсковой старшина. И пошел старый Кисляков который раз на службу с тем же полком. Прямо семейная команда! Было ему уже без году шестьдесят. Сух, жилист, темен, как мореный дуб: руби поперек — топор со звоном отскакивает.
Петра оставил Лютенсков поближе к жене, у Кубы, при кордонной страже, поимел Божескую милость. Зато уж старого, как пришли, законопатил в Бакинскую крепость для содержания в Бакинской и Ширванской провинциях постов.
Проводив царского братца, прихворнул Платов, но чуть отлежался, взялся ретиво задела войсковые. Который уже раз засобирался Войско объехать:
— Поеду…
Зятья, попеременно при нем дежурившие, отговаривали:
— К чему? Там и так съемка земли идет. Статистика опять же…
— Не так сделают…
— Да кто там без вас что делать будет? Переписывают только, иде какая земля…
Письмоводитель Смирный встрял:
— Вашему сиятельству надо бы отпуск испросить и отдохнуть хорошенько.
Платов, как всегда при чужих, встрепенулся:
— Чем вы меня хотите сделать? Ребенком, что ли? После таких милостей отпуск просить? Лучше умру!
Все ж уговорили его не ездить по Войску. Распишут все земли, соберут доклады, представят. Тогда, разобравшись, можно и реформы проводить. Пусть только прикажет, а подчиненные исполнят.
Нудился Матвей Иванович от такого разговора. Нет, не по его получалось!.. Хотя и знал, чувствовал — не объедет он Войско. И время есть, а сил не осталось. Взрыкивал, как раненый лев в облаве. Отмахнул всех, наконец:
— Отвяжитесь…
Молчал долго, шумно дышал, откинувшись в кресле, поставленном среди зала. Нашел выход:
— Наши все перепутают. Надо царю доложить — как тут все переделать.
На этом и уперся. Срочно снарядил есаула Шершнева в Москву с рапортом к царю и письмом к Аракчееву, чтоб разрешили ему отлучиться с Дона и всеподданнейше доложить, так, мол, и так обстоят на тихом Дону дела…
Ждал. Сидел у себя в Мишкине. Внукам и всем, кто помоложе, внушал по-стариковски:
— Ни на кого не надейтесь. Своей головой пробивайтесь. Служите честно.
Появлялась Элизабет, присаживалась в уголке, молча слушала, Платов на нее нарадоваться не мог: ест, пьет, молчит и улыбается, славная женщина!
В конце ноября пришло царское соизволение и вместе с ним высочайший манифест, изъявлявший войску признательность и благоволение.
Платов обрадовался: успеет к 12 декабря, к царскому дню рождения. Смирного с нужными людьми отправил вперед заранее:
— Приготовьте все и ждите меня.
Проследив, как тот, раскланявшись, выскользнул за дверь, сказал зятю, полковнику Харитонову:
— Послезавтра выезжаем.
Вечером Платов засиделся у окна. Все глядел поверх голых и черных садов на далекий Дон. Синела даль, мутнела, и осталось в черном окне лишь собственное неясное отражение. А он все не уходил. Отражение разглядывал.
Ночью подула «низовка». Огромные хлопья снега липли к освещенному изнутри стеклу и бессильно сползали, оставляя мокрый след. Как слеза по щеке. Глядя на них, представил Матвей Иванович заснеженную веселую Москву, золотые купола, колокольный звон, восторг и жадное любопытство в глазах людей. «Платов! Атаман Платов!» Императрицу Марию Федоровну…
Лег спать, но уснуть не мог. Мысли и мечты навалились шумные, суетные, в живых картинах, с зудением и гулом. До головной боли… Ворочался Матвей Иванович, вздыхал, всю постель «вскудолчил». Хотел встать и крикнуть, чтоб принесли выпить. Залить бы мечты и желания и уснуть наконец. Да сердце стало схватывать. Какая уж тут водка. Так и лежал, тер ладонью грудь, часто зевал, дышал со стоном. Далеко за полночь, когда стала остывать натопленная спальня, сморил его сон.
И был в том кратком сне миг просветления и печали. Виделись Матвею Ивановичу август месяц в самом начале своем, Дон, ужавшийся в берега[171], и сонные слепящие струи при тихом закате солнца. Стоял он на берегу, у самой воды, и смотрел на Дон в сладкой печали. Стоял и смотрел. Бесконечный утекающий миг… Истек…
Проснулся Матвей Иванович и лежал с закрытыми глазами. Прошел август.
— А ведь я его больше не увижу…
Несколько раз, глубоко вздохнув, заставлял он себя вновь вернуться в сон. Ничего не получалось.
— Господи, что же это со мной?
Тоска обреченности подкатила, как волна, и шуршала в ушах, как шуршит песок под прибоем. Тоска, тоска…
Укрыться, спрятать ее от людей подальше, уйти, и чтоб никто тебя не видел.
С удивлением вслушивался в себя Матвей Иванович, в неестественное, мучительное, нестерпимое чувство.