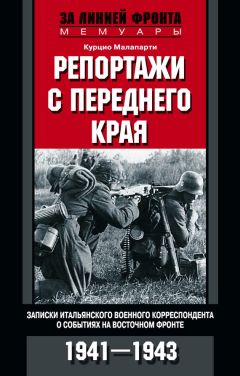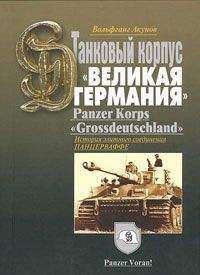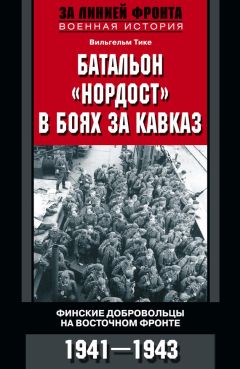Ю. Сушко - Владимир Высоцкий. По-над пропастью
Воспитанный Шемякин вспомнил о своем дворянском происхождении, подошел к Любимову, поздоровался и сказал:
— Володе плохо.
— А вам тоже вроде нехорошо? — заметил Юрий Петрович.
— Это все фигня. А вот вы, господин хороший, — засранец.
— Почему, Миш? — заинтересовался Любимов.
— Знаете почему? Потому что вы государя императора Николая в своем спектакле повесили вверх ногами, в сапожках. Прекрасно получилось! А вы представьте вот такой момент... В зале ведь сидели столетние старушки и старички. А тридцать или сорок лет тому назад вы осмелились бы вот такой трюк проделать? К вам бы подошли, любимый Любимов, господа офицеры и — надавали бы вам по морде за оскорбление персоны.
И Любимов, очень талантливый человек, очень странный, вдруг взял меня за руку, хвастался Шемякин, обнял и сказал: «Миша, — говорит, — вы правы. Я сподличал...»
А к столику Высоцкого в это время подплыли Алеша Димитриевич и его сестра Валя. Владимир был при деньгах, заказал несколько песен, стал кидать пятисотенные купюры. Валя — представьте себе цыганку шириной со стол — бросилась собирать бумажки и запихивать их в лифчик необъятных размеров... Потом гитару взял Высоцкий и запел «На Большом Каретном».
«Хмель гулял у нас в головах, — вспоминал «гений всех времен» Шемякин. — Когда же Володя дошел до слов «...Где твой черный пистолет?!», я сообразил, что пистолет при мне, и, выхватив наган, бабахнул пару раз в потолок... Все мгновенно нырнули под стол, включая Любимова, хозяйку и цыган. Лишь под одним из столов возвышался, покачиваясь, громадный зад Вали. Лакеи, конечно, вызвали полицию. Ко входу уже подъезжал французский «воронок», когда мы тихо — через кухню — выскользнули и прямиком в другой ресторан «Царевич», где пел один из самых знаменитых русских цыган Володя Поляков, который всегда просил Высоцкого: «Володя, ну спой».
Но Высоцкий, когда пил, ни петь, ни писать не мог...»
А их женщины — Марина и Ревекка — в эту ночь были дома у Шемякиных и вдали. Сидели на кухне и курили, курили, курили...
«Марина сидела совершенно бешеная, — рассказывала Ревекка. — Я говорю:
— Марин, давай с юмором к этому относиться.»
А ей было не до юмора, — она очень сильно переживала. А еще у нее утром была съемка, кажется, в «Марии-Антуанетте», — ей надо было быть свежей и красивой... Потом она все-таки уехала. Сказала мне:
— Как только они появятся, — позвони.
Только под утро, отпущенные коварными французскими бесами, они пришли домой...»
***Рядом с «мерседесом» лихо припарковались «жигули», и из приоткрытого окошка донеслось: «Над Шереметьево, в ноябре, третьего метеоусловия не те...» Высоцкий, сидя за рулем, покосился и с усмешкой бросил Янкловичу: «Видал, шустро работают, ребятам с «Мелодии» бы их оперативность...» Посмотрел на часы: «Все, Валер, парижский рейс уже на сорок минут задерживается. Я уже на спектакль впритык еле-еле успеваю. Значит, так Встретишь Марину, привезешь домой. Вот ключи...»
— Володя, я же машину не вожу, — взмолился Янклович. — Как я ее отвезу?
— Очень просто. Марина сама сядет за руль. Ключи у тебя. От квартиры у нее есть. Но возьми еще и мои, на всякий случай. Все объяснишь. Я побежал.
Он хлопнул дверцей «мерседеса», поднял руку, к нему тотчас подкатило такси, и Высоцкий умчался на Таганку.
Янклович покорно остался ждать Марину. В последнее время он превратился в основного, едва ли не личного администратора
Владимира, занимаясь и концертными, и всякими бытовыми делами. Из соседней машины продолжал, словно и не уезжал, петь Высоцкий: «...Так веру в Господа от нас увозят потихоньку.»
Наконец появилась она, такая красивая и совершенно потусторонняя. Янклович поздоровался, поцеловал руку, вручил цветы, объяснил отсутствие мужа.
— А что сегодня? «Гамлет»? — как бы мимоходом поинтересовалась Марина.
— Нет, «Вишневый сад».
Марина уселась за руль. Минут через сорок они были в центре. Вот и Малая Грузинская. Поднялись на восьмой этаж Валерий отдал Марине ключи. Вошли. Потом он рассказывал Высоцкому: «Она зашла в спальню, и я услышал вскрик Вбежал, смотрю — Марина ошеломленно стоит, а вся постель устлана шкурками соболей... И я увидел ее лицо... Это было такое лицо... Лицо самой счастливой женщины мира».
Когда после спектакля Владимир приехал домой, Марина все еще сидела в спальне и гладила руками нежный блестящий мех Он целый год собирал ей эти шкурки, хотел, чтобы все было так, как он когда-то писал:
В грязь соболя — или по ним, — по праву!..
А потом они долго-долго разговаривали, что-то вспоминали, спорили. Наконец, он не выдержал:
— Теперь послушай песню.
Открытые двери больниц, жандармерий —
Предельно натянута нить.
Французские бесы — большие балбесы,
Но тоже умеют кружить.
... ... ... ...
Я рвался на природу, в лес,
Хотел в траву и в воду, —
Но это был французский бес:
Он не любил природу.
А друг мой — гений всех времен, безумец и повеса,
Когда бывал в сознаньи он — седлал крутого беса.
Трезвея, он вставал под душ, изничтожая вялость, —
И бесу наших русских душ сгубить не удавалось.
Закончив петь, он опустил ладонь на струны и выжидательно посмотрел на Марину: как?
— Молодец. Только знаешь...
— Что?
— Странно все получается. Я, пока вы там с Мишкой куролесили, мучилась, рыдала, с ума сходила, а песня посвящена твоему дружку, «гению всех времен»! Хоть бы словечком вспомнил... Как тогда, ни в Париже, ни в Марселе, обо мне не думал, так и здесь...
— Мариночка, да это же шутка такая, веселая песня с подтекстом». Шутка, вроде того «Милицейского протокола», только на французский лад. Там же тебя тоже нет. Тебе я пишу серьезные вещи...
— Спасибо — не надо!.. Вы оба — негодяи! Что ты, что твой Мишка.
— Ну, Мариночка...
Слово за слово, они разругались. Марина схватила чемодан — и улетела домой. Где-то с месяц потом они были в тяжелом разрыве.
Соболиные шкурки тоже пропали. Оказались плохой выделки.
«Она пыталась перенести на русского мужа свое трезвое — во всех смыслах — отношение к жизни, — считал Шемякин. — Была уверена, что именно рационализм, настойчивость, сильный характер оградят Высоцкого от всех бед. А он, умом понимая, где его спасение, душой рвался в «Большой Каретный».
Отдавая должное усилиям Марины Влади в ее сражениях за спасение Высоцкого от алкоголизма и морфия, некоторые друзья Владимира, и прежде всего Эдуард Володарский, полагали, что последние два-три года «дело шло к разрыву, он уже изнемогал под ее гнетом. Характер у Марины стальной — недаром все предшествующие мужья, когда о ней заходит речь, крестятся и плюются. Она сама рассказывала, как однажды повела Володьку к психологу, чтобы вылечить от запоев. Побеседовав с Высоцким, врач пригласил ее: «Мадам, дела вашего альянса довольно плохи, в представлении мужа вы являете собой огромную черную тучу». «Мадам» впала в бешенство: «Представляешь, какой идиот? Сказал, что я туча! Какая еще туча?!»