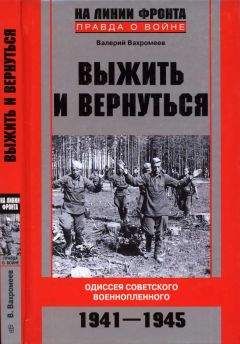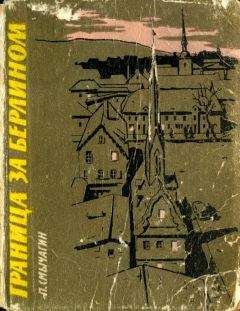Петр Астахов - Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зэка
Вольнонаемные сотрудники приходили чуть позже. Порой их задерживали на утреннем совещании или планерках у директора. А иногда и на «идеологической» обработке, чтобы не забывали, где и с кем работают. Первое время она имела определенный эффект, а потом вольнонаемные перестали верить в «наговоры» администрации.
4.В отделе «черных» мне достался стол у самого входа, откуда я видел всех работающих. На стенах большой комнаты, на деревянных рогах — чертежи, рулоны ватмана, кальки. На столах доски с пантографами, детали от станков, машин, прессформы, прочие мелочи, отдававшие запахом масла, сварки и механической обработки.
В левом углу от меня сидел восточного облика мужчина средних лет с усами. Он любезно ответил на приветствие, мы познакомились. Человек этот до ареста проживал в Махачкале (вроде бы, земляки, с Кавказа). Позднее узнал, что усы он стал носить после того, как было изуродовано лицо. Он потерял верхнюю челюсть и зубы, носовую перегородку, после чего ему понадобился своеобразный камуфляж с усами.
Он постоянно держал сомнительной чистоты платок, вытирая им влажные усы и нос. Тяжелая травма нарушила речь, и говорил он с заметным дефектом. Я сохранил сделанный с натуры рисунок, когда он, подняв глаза к небу, что-то шептал про себя. Он производил странное впечатление, когда разговаривал, и чем-то напоминал воркутинского Спивака, мудрено объясняя простые вопросы.
Так же сложно он разрабатывал чертежи, делая множество вариантов без окончательного решения, отчего КПД его творчества в отделе был низок, а еврейские способности будто бы обошли его стороной. Я запомнил его фамилию по ассоциации — местечковое имя Ицек сочеталось с прилагательным «смелый». В итоге получилось — Смиловицкий. А имя никак не могу вспомнить.
Были в отделе и москвичи. Но, судя по фамилиям, их можно было скорее принять за прибалтов.
Генрих Антонович Вайвода жил до ареста в Москве, в переулке Грановского. Прирожденный конструктор, он, в отличие от Смиловицкого, делал все быстро и умело. Я обратил внимание на его большие и крепкие руки — они постоянно что-то вытачивали из металла. По умению обращаться с инструментом в нем нетрудно было угадать и мастера по обработке металла.
Земляка его звали по отчеству: Оттович. Он работал конструктором и технологом. Незаурядный и опытный специалист был на хорошем счету у Рябова.
Как и Вайвода, он сидел по десятому пункту 58-й статьи, но подробности о деле ни тот, ни другой не рассказывали.
С Женей Брагиным — тоже москвичом — у нас сложились близкие отношения. Он был старше меня на несколько лет нравился общительным характером, умением работать и рисовать.
Работать он научился в ФЗУ и в Бауманском[37]. Он мог сам выполнить любую работу, любого профиля. Рабочие уважали его за хватку и универсализм, понимали, что такого «на мякине не проведешь», и выполняли все его сложные задания без «туфты» и оговорок.
Как-то он задумал изготовить ручку-аэрограф. То была ювелирная работа, требующая мастерства. Женя выполнил сложное задание, и перед нами оказалась великолепная ручка, которую еще следовало испытать на специальном компрессоре.
Седой как лунь старик, Этингер, был самым великовозрастным в отделе. Он продолжал еще молодиться, пытаясь доказать свою удаль, хотя давно потерял координацию движений и ходил будто на палубе во время качки. Несмотря на старость и полное отсутствие навыков в работе, он калькировал чертежи: видимо, кто-то на пересылке пожалел его и отправил на завод, чтобы не «загнулся» в тайге на лесоповале.
Он принадлежал к старой гвардии большевиков, прошедших дореволюционную ссылку и сохранивших идеи прошлых лет. Он называл их и себя ортодоксами.
Чудаковатый старик любил выдавать оптимистические прогнозы:
— Мы еще такую жизнь построим!!! Нам позавидуют! Вспомните!.. Это будет не жизнь, а сказка… Жизнь — поэма, — говорил Этингер, придерживая прыгающие во рту протезы.
Борис Акимов специализировался на изготовлении штампов и так хорошо знал свое дело, что пользовался авторитетом не только у рабочих и работников и техников, но и у самого Рябова. Было ему около сорока. Вероятно, горбатым он был с детства, никто не знал подробностей увечья, а сам Борис будто и не чувствовал своего горба. Физический недостаток не надломил его, а, напротив, закалил волю. Он всегда сохранял независимость и достоинство. Технологи приходившие в отдел «потравить» и послушать «байки», уважали его за свободолюбие и независимый нрав.
Бывал ежедневно у Бориса и известный на заводе «морской волк» Леха, с громкой и красивой фамилией — Кассандров. Мир знал он не по книгам. До ареста Леха работал капитаном дальнего плавания на судах Балтийского пароходства. Он и на заводе по-прежнему носил китель и морскую фуражку с крабом. Не выпускал изо рта старую, много повидавшую трубку. Входя с улыбкой в отдел, он приветствовал присутствующих на английском: «Hello, everybody!» Его талант руководителя был замечен, и Леха занял место начальника гальванического цеха. После освобождения, не желая испытывать судьбу во второй раз, он остался на заводе, заняв должность начальника планово-производственного отдела.
Особое место в моей памяти принадлежит инженеру-механику Ивану Поликарповичу Зарайченкову. Его фотографию я храню, как реликвию. Необычная внешность седого бородача привлекала внимание. В свои 55–57 лет выглядел глубоким старцем. Неряшливая одежда, стоптанная обувь, шаркающая походка, старые разбитые очки, давно требующие замены, свидетельствовали о потере интереса этого человека к жизни.
Нрава он был ершистого и независимого, любил шутки-прибаутки. Понимал и не обижался, когда подшучивали над ним. Он был родом с Дона и чем-то напоминал деда Щукаря, но только более умного, умеющего и ответить, и постоять за себя.
В отделе частенько шутили над его фамилией:
— Ты чего, Поликарпыч, к русским примазываешься? Нешто хохлы не такие?
— Да, если бы! Как ни пыжусь сказать «поляница» — ничего не получается. А с фамилией и родился, и помру, не Дергайте за чуб.
Он гордился своей казацкой кровью и донским происхождением. В Ростове или в Новочеркасске прошла его молодость. Он с гордостью говорил о своем участии в гражданской войне и установлении большевистской власти на Дону. Тогда Поликарпович и вступил в партию, уверовав в правильность ее политики.
В лагере он продолжал быть убежденным коммунистом, считал Советскую власть справедливой и лучшей в мире. Перегибы и перекосы, которые коснулись лично его, объяснял происками партийных перерожденцев, карьеристов и двурушников.