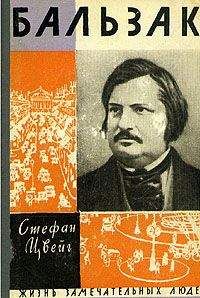Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии - Цвейг Стефан
Итальянец на этом кладбище? Странная надпись, странный покойник! Случайно кто-то из мимо идущих вспоминает, что был когда-то французский писатель Анри Бейль, изъявивший желание быть похороненным в таком чуждом обличье. Наскоро организуют комитет и собирают некоторую сумму, чтобы приобрести новую мраморную доску для старой надписи. И вот заглохшее имя снова зазвучало внезапно над истлевшим телом, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, после сорока шести лет забвения.
И странный случай: в том самом году, когда вспоминают о его могиле и вновь извлекают тело из недр земли, молодой польский преподаватель языков, Станислав Стриенский, заброшенный в Гренобль и отчаянно скучающий там, роется как-то в библиотеке и, увидев в углу старые, запыленные рукописные фолианты, начинает их читать и расшифровывать. Чем больше он читает, тем интереснее становится материал; он ищет и находит издателя; появляются на свет дневник, автобиография «Анри Брюлар» и «Люсьен Левен», а вместе с ними, впервые, и подлинный Стендаль. Его истинные современники восторженно узнают в нем брата по душе, ибо он трудился не для своей эпохи, а для грядущего, следующего поколения. «Я стану знаменит около 1880», – часто встречается в его книгах, в то время незначащие слова, обращенные в пустоту, ныне потрясающая действительность. В то самое время, когда прах его извлекается из глубины земли, восстает из мрака минувшего и труд его жизни; с точностью почти до года предсказал свое воскресение тот, кто внушал вообще так мало доверия, – поэт всегда и в каждой своей строке, а в этих строках еще и пророк.
«Я» и вселенная
Он не мог нравиться, в нем не было цельности.
Творческая раздвоенность является в Анри Бейле прирожденной; уже родители его представляют собой две разнородные, мало подходящие друг другу личности. Шерюбэн-Бейль – при этом имени отнюдь не следует вспоминать Моцарта! – отец, или bâtard [187], как именует его злобно Анри, его ожесточенный сын и враг, являет собой законченный тип крепкого, коренастого, житейски умного, окаменевшего в денежных расчетах провинциального буржуа, каким пригвоздили его Флобер и Бальзак гневной своей рукой к позорному столбу литературы. От него Анри Бейль унаследовал не только физическое строение – массивность и тучность, но и эгоистическую одержимость плоти и духа. Иное дело его мать, Анриетта Ганьон, женщина южнороманского происхождения и с точки зрения психологии чисто романский тип. Натура южная, порывисто чувствительная, тонко музыкальная, она могла бы представлять собой персонаж ламартиновского творчества или сентиментализма Жан-Жака Руссо. Ей, рано умершей, обязан Анри Бейль своей страстностью в любви, неистовостью чувства, болезненной и почти женской нервной восприимчивостью. Непрерывно толкаемый в противоположные стороны этими двумя разнородными струями в своей крови, Анри, порождение глубоко различных характеров, всю жизнь колеблется между материнским и отцовским наследством, между романтикой и реализмом; будущему писателю навсегда суждено сохранить двойственность и расколотость мироощущения.
Как тип резко реагирующий, маленький Анри определился очень рано: он любит мать (любит даже, как он сам признается, с подозрительной страстностью преждевременно созревшего чувства) и ненавидит отца, «father’a», ревниво и презрительно, испански холодной, цинически мрачной, пытливо инквизиторской ненавистью; едва ли найдется для психоанализа более совершенный «эдипов комплекс», чем тот, что запечатлен на первых страницах стендалевской автобиографии «Анри Брюлар». Но эта преждевременная напряженность чувства внезапно обрывается: мать умирает, когда Анри минуло семь лет; а на отца своего мальчик склонен смотреть как на умершего с того момента, как покидает в шестнадцатилетнем возрасте, в почтовом дилижансе Гренобль; с этого дня он считает его умерщвленным и схороненным своим молчаливым презрением, своей ненавистью. Но и засыпанный щелочью, залитый известковой жидкостью пренебрежения, его жилистый, расчетливый, деловитый буржуа-отец Бейль пятьдесят лет еще продолжает жить под телесной оболочкой Анри Бейля и повелевать его кровью; пятьдесят лет борются в нем праотцы двух враждующих душевных рас, Бейли и Ганьоны, дух деловитости и дух романтизма, и ни тот ни другой не могут взять верх. В эту вот минуту Стендаль – истинный сын своей матери; но в следующую, а часто и в ту же самую он уже сын своего отца; то он робко застенчив, то иронически тверд, то романтически мечтателен, то настороженно деловит, то музыкально меланхоличен, то логически неуязвим; даже в неуловимый промежуток между двумя секундами жар и холод вступают в нем в яростное противоборство, бурлят и подавляют друг друга в непрестанном приливе и отливе. Чувство берет верх над рассудком, интеллект ставит препоны восприятию. Нет момента, чтобы это дитя противоречий принадлежало одной какой-нибудь сфере; в извечной войне ума и чувства редко имели место битвы более величественные, чем та грандиозная психологическая борьба, которую мы именуем Стендалем.
Следует оговорить сразу же: борьба не решающая, не насмерть. Стендаль не побежден, не растерзан своими противоречиями; от рокового исхода эта эпикурейская натура защищена своеобразным моральным равнодушием, холодным, настороженным любопытством. В продолжение всей жизни этот бдительный дух умеет уклоняться от разрушительных, демонических сил, ибо первое правило его мудрости – самосохранение; и подобно тому как на войне настоящей, наполеоновской, он всегда находил возможность оставаться в тылу, вдали от перестрелки, так и в битве душевной Стендаль охотнее держится спокойной позиции наблюдателя, чем передовых позиций, где борьба идет не на жизнь, а на смерть.
В нем нет вовсе духа последнего, морального самоотречения, свойственного Паскалю, Ницше, Клейсту, которые каждый свой душевный конфликт доводят до решающего конца; он, Стендаль, довольствуется тем, что, переживая чувственный конфликт, страхует себя духовно, созерцая этот конфликт как эстетическое зрелище. Поэтому в существе своем он не потрясается противоречиями; он даже к своей раздвоенности не питает ненависти, даже любит ее. Он любит свой алмазно-твердый, точный ум, как нечто очень ценное, потому что он дает ему понимание мира и в разгаре чувственных смятений ставит им точные и безусловные пределы.
Но с другой стороны, Стендаль любит и чрезмерность своего чувства, свою сверхвпечатлительность, потому что она отрешает его от тупых и пошлых будней, потому что эти внезапные эмоции, подобно музыке, высвобождают душу из тесной темницы тела и уводят ее в бесконечное. Точно так же ведомы ему и опасности этих двух жизненных полюсов: свойственная интеллекту способность сообщать трезвость и холодность самым высоким мгновениям – и присущее чувству стремление увлекать слишком далеко в расплывчатость и недостоверность и тем самым губить ясность, являющуюся для него условием жизни. И он охотнее всего придал бы каждому из этих душевных складов черты другого; неустанно пытается Стендаль сообщить интеллектуальную ясность своему чувству и внести страстность в свой интеллект, до конца жизни соединяя под одной напряженной и восприимчивой оболочкой романтического интеллектуалиста и интеллектуального романтика.
Таким образом, каждая формула Стендаля содержит две переменные, никогда не сводясь к одной из них; только в такой двойственности мировосприятия проявляет он себя до конца. Достижения его интеллекта, взятого отдельно, оказались бы невысоки, как и лирическое напряжение его чувства; его наиболее сильные моменты вытекают именно из воздействия и взаимодействия его природных противоречий. «Lorsq’il n’avait pas d’émotion, il était sans esprit», – говорит он себе, то есть: он не может правильно мыслить, не получив чувственного возбуждения; но вместе с тем он не может и чувствовать, без того чтобы не проверить тотчас же биение своего собственного сердца. Он обожествляет грезы, как ценнейшее условие своего жизненного чувства, и не может вместе с тем жить без противоядия их, без бдительной настороженности. Ему дорог в себе, таким образом, и острый интеллектуалист, и не знающий меры романтик, и прежде всего дорого ему вибрирующее, до истоков нервов доходящее взаимодействие этих противоречий. Подобно тому как Гёте признается однажды, что понятие, именуемое в просторечии наслаждением, «заключено для него где-то между чувственностью и разумом», так и Стендаль только благодаря огненному смешению духа и крови воспринимает всю красоту мира. Он знает, что только от постоянного трения друг о друга его контрастов возникает то душевное электричество, то пощипывание и те искры в нервных клетках, та напряженная, покалывающая, потрескивающая жизненность, которую мы и сейчас чувствуем, взяв в руки любую книгу, любую страницу Стендаля; только благодаря этому межполюсному жизненному потоку вызывает он в себе творческую светоизлучающую силу, и его никогда не слабеющий инстинкт самовозвышения страстно поддерживает необходимое высокое напряжение. В ряду своих бесчисленных и выдающихся наблюдений в области психологии он высказывает однажды замечательное: подобно тому как мускулы нашего тела нуждаются в постоянной гимнастике, чтобы не ослабнуть, так должны быть непрестанно упражняемы, развиваемы и заново образуемы и психические силы; этот труд самосовершенствования Стендаль выполнял более упорно и последовательно, чем кто-либо. Он холит и лелеет обе стороны своего существа для познания жизни с такой же любовью, как артист свой инструмент, как солдат свое оружие; неукоснительно тренирует он свое «я». Чтобы поддержать высокое напряжение чувства, он ежевечерне подогревает свою экспансивность оперной музыкой и, будучи уже пожилым, намеренно ищет для самовозбуждения новой влюбленности. Заметив признаки ослабления памяти, он, для укрепления ее, проделывает специальные упражнения; как бритву по утрам, оттачивает он на ремне самонаблюдения свою способность правильного восприятия. При помощи книг и бесед он старается обеспечить себе ежедневный подвоз новых идей; он нагружается, возбуждается, напрягается и самоограничивается в целях все более и более тонкой настроенности; неутомимо точит он свой ум, облагораживает чувство.