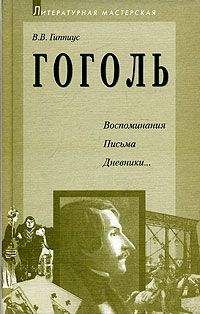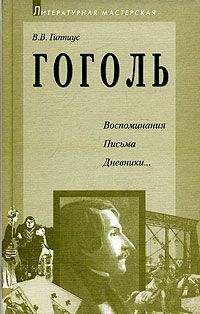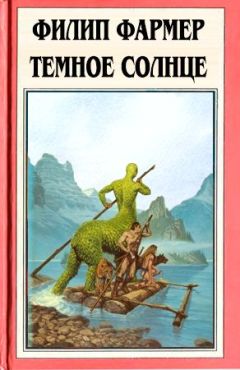Василий Гиппиус - Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники
– Так, стало быть, – возразил я, – вы по самолюбию не хотите писать, чтобы не показаться при новом направлении ниже, нежели каковы были вы при прежнем?
– Как хотите, думайте, – отвечал он. – Но неужели живописец не прав, если он не выставляет напоказ своей картины, как бы хороша она ни была, если он сам недоволен ею?
– Но вы должны иметь в виду пользу публики; если вы осуждаете сами свое прежнее направление, то поспешили бы высказать новое.
– Я не осуждаю, – отвечал он, – всему свое время.
Тем разговор и кончился.
Это была первая и последняя моя встреча с Гоголем. Через 3 месяца приезжал он опять к нам и привозил с собою изданную за границей брошюру, где осуждается его отступничество от прежнего направления и приводится объяснение, почему Гоголь не пишет ничего вновь. [Статья Герцена (см. ниже).] Гоголь объявил тогда, что он считает священным долгом продолжать «Мертвые Души», чтобы опровергнуть клевету; хотел приехать еще через 3 недели, но не приезжал. В этот последний приезд я не видал его…
«Русский Вестник», 11 янв. 1859 г., № 10. П. К. «Встреча с Гоголем».
Из статьи А. И. Герцена
«О развитии революционных идей в России»
Ницца, 1851 г.
…Автор статьи «Москвитянина» [Ю. Ф. Самарин в статье «О мнениях Современника исторических и литературных» (подписана буквами М. З. К.) в «Москвитянине», 1847 г., кн. 2.] говорит, что Гоголь «спустился, как горнорабочий, в этот глухой мир, где не слышится ни громовых ударов, ни сотрясений, неподвижный и ровный, в бездонное болото, медленно, но безвозвратно затягивающее всё, что есть свежего (это говорит славянофил); он спустился, как горнорабочий, нашедший под землею жилу, еще не початую». Да, Гоголь почуял эту силу, эту не тронутую руду под необработанной землей. Может, он ее и почал бы, но, к несчастью, раньше времени подумал, что достиг дна, и вместо того, чтобы продолжать расчистку, стал искать золото. Что же из этого вышло? Он начал защищать то, что прежде разрушал, оправдывать крепостное право и кончил тем, что бросился к ногам представителя «благоволения и любви».
Пусть славянофилы подумают о падении Гоголя. Они найдут в нем, может, больше логики, чем слабости. От православного смиренномудрия, от самоотречения, относящего свою индивидуальность в индивидуальность государя, до обожания самодержца – один только шаг.
И что можно сделать для России, находясь на стороне императора? Времена Петра, великого царя, прошли; Петра же, великого человека, нет более в Зимнем дворце, он в нас.
Пора это понять и, бросая наконец борьбу, отныне пустую, соединиться во имя России, но также и во имя независимости.
Сочинения А. И. Герцена, т. IV, стр. 394–395.
Из воспоминаний М. С. Щепкина
[В передаче Н. M. Щепкина, сына М. С-ча.]
…Однажды Иван Сергеевич Тургенев приехал в Москву и, конечно, посетил Михаила Семеновича, заявив ему при свидании, между прочим, что хотел бы познакомиться с Николаем Васильевичем Гоголем. Это было незадолго до смерти Гоголя. Михаил Семенович ответил ему: «Если желаете, поедемте к нему вместе». Тургенев возразил на это, что неловко, пожалуй, Николай Васильевич подумает, что он навязывается. «Ох, батюшки мои, когда это вы, государи мои, доживете до того времени, что не будете так щепетильничать!» – заметил М. С. Тургеневу, но тот стоял на своем, и Щепкин вызвался передать желание Ив. С. Тургенева Гоголю. Свой визит к Гоголю, по словам моего отца, Михаил Семенович передал так: «Прихожу к нему, Николай Васильевич сидит за церковными книгами. Что это вы делаете? К чему эти книги читаете? Пора бы вам знать, что в них значится?» – «Знаю, – ответил мне Николай Васильевич, – очень хорошо знаю, но возвращаюсь к ним снова, потому что наша душа нуждается в толчках».
«Это так, – заметил я ему на это, – но толчком для мыслящей души может служить всё, что рассеяно в природе: и пылинка, и цветок, и небо, и земля».
Потом вижу, что Гоголь хмурится; я переменил разговор и сказал ему: «С вами, Николай Васильевич, желает познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли это будет вам?» – «Кто же это такой?» – «Да человек довольно известный: вы, вероятно, слыхали о нем: это Иван Сергеевич Тургенев». Услыхав эту фамилию, Николай Васильевич оживился, начал говорить, что он душевно рад и что просит меня побывать у него вместе с Иваном Сергеевичем на другой день, часа в три или четыре.
Меня это страшно удивило, потому что Гоголь за последнее время держал себя особняком и был очень неподатлив на новые знакомства. На другой день ровно в три часа мы с Иваном Сергеевичем пожаловали к Гоголю. Он встретил нас весьма приветливо; когда же Иван Сергеевич сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им, Тургеневым, на французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Николай Васильевич заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько любезностей Тургеневу. Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось какою-то злою улыбкой, и, обратившись к Тургеневу, он в страшном беспокойстве спросил: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?» – «Тут только я понял, – рассказывал Михаил Семенович, – почему Николаю Васильевичу так хотелось видеться с Иваном Сергеевичем.»
Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: «Правда и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою „Переписку с друзьями“. Я бы сжег ее». Тем и закончилось свидание между Гоголем и Тургеневым.
М. С. Щепкин, стр. 373–374.
Из воспоминаний И. С. Тургенева
Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-е октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, [Сюртук.] зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Ф. [Вероятно, Е. М. Феоктистов (1829–1898), приятель Тургенева, впоследствии видный бюрократ и правый публицист.] Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 1841 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е[лаги]ной. В то время он смотрелся приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица.