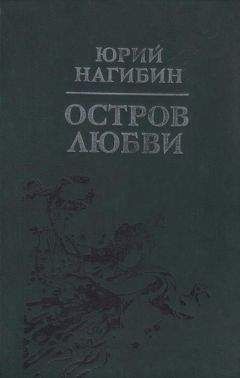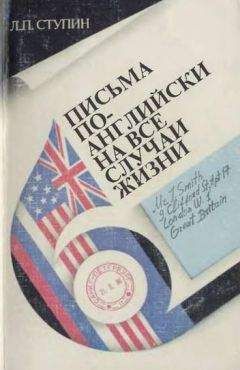Михаил Байтальский - Тетради для внуков
Иосиф рассказывал мне, что замечал слезы на ее глазах, когда ей приходилось выполнять чье-либо злобно идиотское распоряжение. Врачам давали лимит на количество освобождений от работы по болезни. Грипп не признавался эпидемической болезнью и не мог служить основанием для увеличения лимита, ибо эпидемий у нас не бывает. А такая болезнь, как пеллагра, вообще исключена при социализме. Доходяги умирают не от нее, а от смерти. Пишите в акте вскрытия что угодно, но не пеллагру. Самоубийства тоже обозначались в акте придуманной болезнью. Выслуживаясь с помощью показухи, начальство заставляло и врачей врать.
Кроме начальника лагеря, на врача нажимали и уголовники, желающие "закосить" и добыть – хитростью или нахальством – букву "б" (болен) в табеле. Лагерный афоризм "Нахальство – второе счастье" – общеизвестен. Некоторые уголовники не просили, а угрожали. На шахте, где в медпункте дежурила сестра, была попытка изнасилования, и с того времени там сидел надзиратель.
В борьбе с нахальством нашему врачу мог помочь Иосиф, в борьбе с начальством – никто. Бендеровцы знали, что за "жида" Иосиф даст в морду (это обходилось обоим – и оскорбителю и оскорбленному поровну – по трое суток карцера). Но врач не может же дать в морду куму! да и формальной причины нет. Он дает глупую команду? Он выполняет свой долг.
Заходя в санчасть к Иосифу, я порой видел ее. На худом, вытянутом лице только и виделись огромные, полные скорби глаза. Она не вынесла этих лживых актов вскрытия доходяг, лимитов на заболевания, хамства и жестокости, этого лицемерия на каждом шагу, щитов с лозунгами "жить стало веселее", – всего этого в таком сгущенном виде она вынести не смогла. На воле контрасты не так резки. И вскоре после того, как Иосифа увезли, она уехала домой, в Ленинград.
48. Период лагерной либерализации
По соседству с нами, в лагпункте шахты № 3, отделенном от нас дощатым забором и колючей проволокой, свирепствовал надзиратель Самодуров, сержант. Нашим лагпунктом одно время командовал другой Самодуров, майор. И фамилия выразительная, и совпадение счастливое. Возможно, они были в фамильном родстве, не только в духовном.
Уже тогда, когда лагерный режим начали слегка спускать на тормозах, наш майор получил директиву: отныне заключенным необязательно стричься наголо. Прежде, чем довести директиву до низов, майор издал свою: все зека, у кого волосы длиннее полсантиметра, обязаны остричься в трехдневный срок, иначе их ждет наказание. По баракам пошла великая кампания. С нас сдирали шапки и на улице, проверяя длину волос. Давно мы не ощущали такой заботы.
Когда мероприятие провели, в суматохе оболванив даже кое-кого из второстепенных стукачей, Самодуров вывесил полученный им циркуляр: можете не стричься…
Майор не заслуживает дальнейшего внимания, он весь перед нами в натуральную величину. Займемся сержантом.
Лагерные надзиратели, как и тюремные, – не солдаты срочной службы, а добровольцы, сверхсрочники. Их, конечно, подбирают. Сержанта Самодурова подобрали удачно. Приходя дважды в день делать поверку в бараке – а если в одном из бараков надзиратель неправильно сложил 49 и 77, то все бараки перепроверялись заново, – он каждый раз будил всех поголовно и заставлял становиться в строй. Пусть в кальсонах, но в строю! Плевать ему на объяснения, что мы полчаса, как пришли с ночной смены! Его не касается и то, что сверх восьми часов под землей у нас ушло еще шесть-семь часов на развод, шмон, дорогу и выполнение прочих лагерных традиций. Его дело – считать, а считать спящих он не намерен. Еще чучело положите на нары вместо живого зека. Слезай с нар все до одного, быстро!
Лагерь и тюрьма равно перевоспитывают и поднадзорных, и надзирающих. В какую же сторону идет перековка самих кузнецов, а через них понемногу – и всего общества?
Сержант Самодуров служил исправно. А где-то в колхозе, из которого он навсегда ушел несколько лет назад, произошло рядовое происшествие: его отца арестовали, дали, сколько причитается и привезли в Воркуту.
На утреннем разводе, когда заключенных построили, чтобы вести на работу, и начальник скороговоркой прочел молитву для путешествующих: "Шаг влево, шаг вправо считаю побегом, стреляю без предупреждения", – какой-то зека делает вдруг пять шагов влево и бросается на шею надзирателю Самодурову с криком: "Сынок мой, сыночек!"
Строй замер. Сержант оттолкнул отца и заорал:
– Конвой, чего смотришь, таку твою мать! У тебя люди выходят из строя, а ты и руки в карман!
На вахте засуетились. Старика немедленно увели назад в зону и в тот же день перевели в другой ОЛП. А надзиратель? А что – надзиратель? Его дело – соблюдать. Слезай с нар все до одного, быстро!
Среди надзирателей попадались и другие – в подборе кадров тоже не исключены неточности. В нашем ОЛПе случилось ЧП – застрелился надзиратель. Говорили – не выдержал. Я не заметил, чтобы остальные подобрели после его смерти.
В день, когда страна узнала о смерти Сталина, нашим вертухаям пришлось поработать. В то утро, вспомнив следователя, находившего, что я вечно и не к месту улыбаюсь, я дал себе слово сохранять постную мину.
Мы уже прослушали по радио правительственное сообщение. Слушали молча, ведь стукачи навострили уши, такие печальные события – им самый клев. Кто-нибудь да выскажется! Пришедшие с ночной поскорей завалились спать. В бараке стояла небывалая тишина.
Дверь открывается. Входят два дежурных надзирателя, с ними третий, специально прикрепленный к нашему бараку в звании воспитателя, старший сержант, маленький и злющий. Воспитатель – славная должность. На нее в свое время назначали заключенного из бытовиков – особо проверенного, т. е., надо полагать, продавшего не менее полдесятка своих товарищей. Только такой может воспитать в заключенных чувство локтя. Видно, чувство локтя развивалось слабо – и в пятидесятых годах воспитателями стали назначать надзирателей. По совместительству – воспитывать и шмонать.
И вот они входят, торопливо сгоняют нас с нар. Тем, кто слез в кальсонах, приказано надеть штаны. В самом деле, траур в кальсонах как-то неприличен. Одно только приказание насчет штанов в другое время вызвало бы кучу простодушных вопросов, но в данную минуту нам не до смеха, мы знаем, в чем дело. Все трое сверлят нас глазами.
– А ну-ка, улыбнись, смельчак!
Мы оделись, выстроились. Воспитатель читает знакомое сообщение. Надзиратели буравят очами. Кто-то кашлянул, за ним другой. Надзиратели насторожились, но придраться не к чему: только кашель, без улыбок. В шахте простыли, начальничек. Добрые гости постояли и ушли. В бараке еще долго продолжалось молчание. Даже под землей, где часто остаешься вдвоем, втроем с давнишними напарниками, и там не один месяц молчали. А на воле – море слез. Жена моя впоследствии рассказала, как она горько плакала. И миллионы наших ничего не знавших жен плакали вместе с ней.