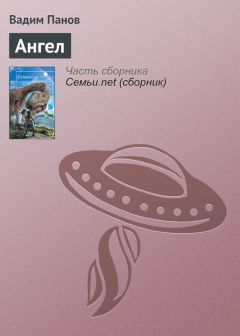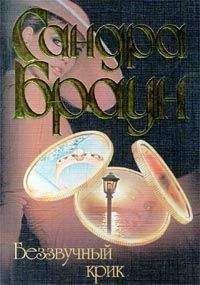Игорь Золотусский - Гоголь
То был подвиг духа и тела Белинского, все силы которого ушли, кажется, на составление письма. То был подвиг литературный и гражданский, ибо, попади это письмо в руки правительства, не сносить бы Белинскому головы.
Гоголь требовал от Белинского настроения исповеди (потому что «в такие только минуты душа способна понимать душу») и получил исповедь. Он проповедовал в ответ на критику Белинского — проповедовал и Белинский. «Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный», — иронизировал Гоголь в «Переписке», и теперь ирония этих слов обращалась на него.
Все смешивалось тут — и высокий порыв души, и эта напыщенность, самолюбие идеи, считающей себя правой, и самолюбие совести, «гордость чистотой своей», как говорил в «Переписке» Гоголь, и гордость раскаяния. Последнее более относилось к Гоголю, первое — «гордость чистотой своей» — к Белинскому.
Белинский судил Гоголя с позиции своей чистоты, незапятнанности, искренности. Во всем этом он отказывал оппоненту. Гоголю высказывались подозрения, в которых, как отвечал ему Гоголь, «я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца». Речь шла о заискивании автора «Переписки» перед властями. «Гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора», — писал Белинский. Гоголь, курящий фимиам земному богу более, нежели небесному, Гоголь, издающий свою книгу на средства правительства, Гоголь, ищущий ею места воспитателя наследника, — вот каким выглядел Гоголь в письме Белинского.
Все эти обвинения, как писал Гоголь, «шли мимо», но они ранили. Они вызывали в ответ гнев, которого не сумел избегнуть Гоголь в черновом варианте письма Белинскому. Но в беловом тексте он все личное снял.
Подозрения и обвинения эти увеличивали пропасть, но не из-за них расходились участники диалога. Все это лишь окрашивало их страстное расхождение. «Примиренья» не было не только между ними, но и между двумя сторонами истины, через которые терпеливый Гоголь хотел перебросить мост.
На одном полюсе укоренился радикализм и требование «перемен» (Белинский), на другом — консерватизм и опора на «предание» (Гоголь). Грубое определение этого различия еще не дает представления обо всем различии, но все же главные черты в нем представлены.
«Усредоточенье» Гоголя, о котором он писал (это слово черновика перешло в беловик), было направлено на душу человека. Белинский столь же, как Гоголь, был недоволен обстоятельствами, но выход искал на иных путях — на пути изменения государственных учреждений России. Причем изменение это рисовалось ему на европейский — парламентский — образец. Белинский настаивал на немедленном освобождении крестьян, на создании новых порядков, на всеобщей грамотности — Гоголь писал ему в ответ, что как бы это освобождение не сделалось хуже рабства, что с ним следует обождать, что надо прежде просветить грамотных, нежели неграмотных. От них-то, грамотных, — от чиновников, стоящих над народом, от тех же помещиков, учившихся в университетах, но не воспитавшихся нравственно, — весь вред. Он напоминал о необходимости просвещения самой «власти», которая вся сплошь тоже грамотна, но творит тем не менее много злоупотреблений. «Народ меньше испорчен, чем все это грамотное население», — писал он.
Они расходились и в понятии просвещения. Белинский винил Гоголя в том, что он крестьянину хочет отказать в ученье, что он против просвещения вообще, и указывал на успехи просвещения на Западе. Гоголь связывал просвещение с изначальным смыслом этого понятия — для него просветить человека значило не только образовать его ум, дать ему сведения о новейших знаниях и сами знания, по и «просветлить» его сердце. Поэтому столь туманно звучало для него общее слово «прогресс». Поэтому «успехи цивилизации», о потребности которых для России упоминал Белинский, вызывали его скептицизм. «Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации, — писал он в черновике своего ответа. — Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут... все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская цивилизация призрак, который точно никто покуда не видел, и ежели пытались ее хватать руками, она рассыпается. И прогресс, он тоже был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, и он рассыпался».
Белинский считал, что религия не спасет Россию. Русский народ, писал он, атеистический народ, он говорит о боге, почесывая у себя пониже спины. Он отделял Христа от церкви, утверждая, что церковь давно предала своего учителя, надругавшись над его учением. Христос первый провозгласил учение о свободе, равенстве и братстве, писал Белинский.
Гоголь отвечал ему: «Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии и что, говоря о боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины... Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих...» Отстаивая русскую церковь от тех, кто, по форме служа ей, на деле оскверняет ее, Гоголь считал, что и церковь, впрочем, нуждается в очищении, в приближении к тому идеалу, который соответствовал бы ее месту в жизни человека. Он напоминал Белинскому — и не только ему — об «истории церкви», факты из русской истории, когда лучшие люди церкви помогли объединиться. «Опомнитесь!..» — писал он Белинскому.
Возглас «Опомнитесь!..» был ответом на тот же возглас Белинского: «Опомнитесь, вы стоите над бездною...» Кто из них стоял над бездною, кто был прав и кто не прав?.. И тот и другой считали, что говорят не только от своего имени (в чем не заблуждались), но от имени России. «Я представляю не одно, а множество лиц», — писал Белинский и далее говорил от имени русского народа, большинства и «массы народа». Гоголь, в свою очередь, замечал ему, что у него больше прав говорить от имени народа, потому что он был «с народом наблюдателен», и о том говорят, наконец, сочинения его. «А что вы представите в доказательство вашего знания человеческой природы и русского народа, что вы произвели такого, в котором видно это знание?» Но то был уже чистый гнев и узурпация мнения народа, узурпация в ответ на узурпацию.
В гневном преувеличении Белинский поднял руку и па Пушкина, заявив, что стоило только Пушкину написать «два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею (как будто Пушкин хотел этого!), чтобы вдруг лишиться народной любви». И опять он говорил от имени народной любви и говорил в данном случае несправедливо: в России знали о трагедии последних дней Пушкина, никто никогда не лишал его народной любви. Ни о каком верноподданничестве Пушкина не могло быть и речи (и об этом писал в своей книге Гоголь), пи о каком прислуживании его царю (слово «ливрея», заменившее в письме Белинского слово «мундир», говорило о низкой роли Пушкина при дворе, ливрею носят лакеи) — и здесь обвинения Белинского «шли мимо», более того, для позднего исторического суда (а не настоящей минуты, которая с восторгом откликнулась на смелость Белинского, упустив эти подробности) имели значение непоправимого промаха.