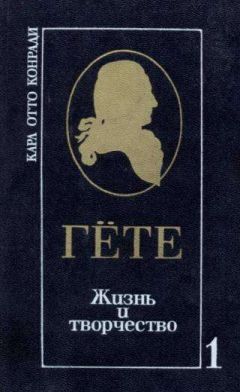Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
Чары Наполеона
Всю жизнь Наполеон казался Гёте чудодеем, и поэт очень часто заводил о нем речь.
В начале 1807 года он называл этого ужасного и одновременно великолепного исторического деятеля «величественнейшей фигурой, какая только возможна в истории» (из письма Кнебелю от 3 января 1807 г.). Даже в преклонные годы он отзывался о Наполеоне примерно так же. ««Мы заговорили о Наполеоне», — рассказывал Эккерман. «Что и говорить, — сказал Гёте, — на него стоило взглянуть. Квинтэссенция человечества!» — «И это сказывалось на его наружности?» — спрашивал Эккерман. «Он был квинтэссенцией, — отвечал Гёте, — и по нему было видно, что это так, — вот и все»» (Эккерман, запись от 16 февраля 1826 г.).
Словом, Наполеон был для Гёте примером некоего демонического начала, о котором уже шла речь выше. Начало это, присущее редким личностям, невозможно охватить разумом, равно как оно и не подчиняется никаким нравственным критериям. «Разум и рассудок бессильны его объяснить, — говорил Эккерману Гёте, — моей натуре это начало не свойственно, но я ему покоряюсь» (Эккерман, запись от 2 марта 1831 г.). И еще: «Поневоле напрашивается мысль, что демоны, дразня людей и подшучивая над ними, временами посылают к ним колоссов, настолько привлекательных и великих, что все стремятся им подражать, но никто не достигает их величия». В этом ряду Гёте называл Рафаэля, Моцарта, Шекспира — «великие прирожденные таланты». «Столь же недосягаем и Наполеон» (Эккерман, запись от 6 декабря 1829 г.). Поражение Наполеона никак не повлияло на гётевскую оценку его личности. А орден Почетного легиона, которым император наградил его в 1808 году, он не снял даже и тогда, когда союзные войска победили и изгнали завоевателя.
Политические соображения и метафизические раздумья сливались воедино в сознании Гёте, когда перед ним вставал созданный им для себя образ Наполеона. После волнений революционных лет император учредил новый порядок, а там, где в дело вступала власть, способная укротить вулканическое брожение и укрепить почву, Гёте усматривал осмысленный процесс, могущий, казалось бы, обеспечить спокойное уверенное движение вперед. Гёте готов был скорее одобрить экспансионистскую концепцию Наполеона, чем согласиться с тем, чтобы Веймар постоянно лавировал между Пруссией, Австрией и Россией в их борьбе за гегемонию в Европе. Однако Наполеон к тому же представлялся поэту воплощением истинной силы истории как таковой. Демон — орудие судьбы; его надо принимать таким, какой он есть, можно удивляться ему, можно опасаться его, но к ужасу всегда должно примешиваться восхищение. Прометей явился в образе деятеля истории. Юношеский идеал мятежного титана, творящего людей по своему подобию и восставшего против Юпитера, давно забыт поэтом, который за долгие годы веймарской жизни пришел к выводу о несбыточности этого идеала и необходимости подчиниться реальным требованиям дня. Само существование Наполеона казалось Гёте своего рода вызовом. Его величие было не только ни с чем не сравнимо; спрашивалось: как принимать его, как ему противостоять? Всякий претендующий на историческую роль вынужден соотнести себя с ним. А ведь еще десять лет назад братья Шлегели публично признали историческое значение Гёте. Пусть отказался он от бунта Прометея; пусть отмел от себя «демоническое начало», а все же, как показывают его беседы поздних лет с Эккерманом, он не всегда мог устоять против искушения сравнить себя с этой исключительной личностью. Но делалось это по большей части косвенным образом или в завуалированном виде.
Встреча с Наполеоном, состоявшаяся в 1808 году в Эрфурте, где проходил съезд государей, надолго запомнилась поэту. По случаю своей встречи с царем Александром I император созвал в Эрфурт на период с 27 сентября по 14 октября почти всех герцогов Рейнского союза, королей Баварии, Саксонии, Вюртемберга, Вестфалии и брата прусского короля, которые таким образом составили для Наполеона своего рода великолепную кулису. Вновь был скреплен франко-русский союз, так что Франция в период завоевания Испании могла не опасаться нападения с тыла. Карл Август хотел, чтобы его герцогство было представлено самым достойным образом, и потому пожелал, чтобы в Эрфурт приехал Гёте. 2 октября Наполеон дал гостю аудиенцию. Ход и содержание их беседы, однако, не могут быть доподлинно воспроизведены: имеющиеся сообщения разных лиц расходятся в деталях. Так, Гёте восторженно сообщал Котте: «Я охотно готов признаться, что ничего более возвышенного и радостного не могла подарить мне жизнь, чем встречу с французским императором, да еще такую. Не вдаваясь в детали беседы, я могу сказать, что никогда еще ни один человек, занимавший высокое положение, не принимал меня этаким вот образом, с каким-то особенным доверием, можно сказать ставя меня в положение равного себе и всячески показывая, что считает мою натуру соразмерной его собственной» (из письма Котте от 2 декабря 1808 г.).
Итак, Гёте выдержал встречу с демонической личностью. Слова, прозвучавшие в этом письме как выражение почтительности к «человеку высокого положения», в действительности означали, что поэт «примерял» себя к тому, кто был для него живым воплощением власти истории. Много позже, в 1824 году, побуждаемый к тому канцлером Мюллером, Гёте наконец записал свой «разговор с Наполеоном». Канцлер Мюллер в своих «Воспоминаниях военных лет 1806–1813 гг.» (изданы в 1852 г.) также обрисовал эту беседу, украсив ее, однако, другими подробностями. Во время аудиенции, при которой присутствовали и наполеоновские генералы, и Талейран, император по ходу дела решал текущие государственные дела и одновременно беседовал с Гёте. Его первые слова: «Vous etes un homme!»[69] (согласно рассказу Гёте), скорее всего, означали: «Какой видный мужчина!» (Однако канцлер Мюллер утверждал, будто Наполеон в конце беседы воскликнул: «Voila un homme!»[70]) Заговорив о литературе, Наполеон выразил неудовольствие одним местом в Страданиях юного Вертера», которое считал «неестественным». Гёте никогда впоследствии не обращался к этому пассажу, так что неизвестно, о каком именно месте шла речь. Наполеон говорил далее, что «отрицательно относится также к трагедиям рока».
«А что такое рок в наши дни? — добавил он. — Рок — это политика» (9, 437). Разумеется, у его собеседника это высказывание не могло вызвать восторга — впрочем, автора «Внебрачной дочери» оно и не должно было удивить. Как сообщает Мюллер, в конце беседы император выразил настоятельное пожелание, чтобы Гёте посетил Париж, где он, несомненно, найдет «в избытке материал» для своих творений.
Размышляя о феномене Наполеона и втайне сравнивая себя с ним, чтобы восполнить урон в самооценке, некогда вызванный отказом от прометеевского идеала, Гёте проводил соответствующие параллели хоть и осторожно, но недвусмысленно. Даже слова, сказанные Эккерману (16 февраля 1826 г.), о том, что Наполеон — квинтэссенция человечества «и по нему было видно, что это так», читаются как перепев наполеоновского «Vous etes un homme!», как комплимент, возвращаемый эрфуртскому собеседнику, идущий от равного к равному.