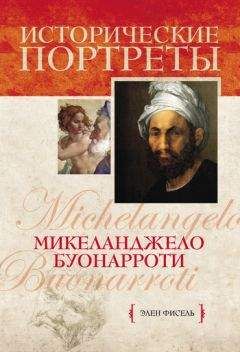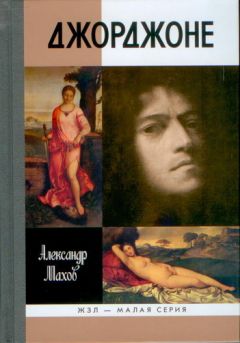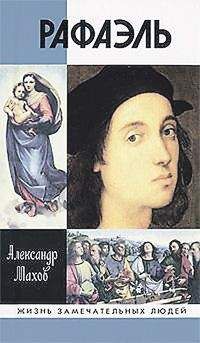А. Махов - Микеланджело
После овеянного славой гордо стоящего мраморного Гиганта, как его окрестили флорентийцы, изображённый над поверженным Голиафом юный Давид с поднятым над головой мечом явно проигрывает своему флорентийскому собрату. Более убедительной выглядит трёхчастная фреска о подвиге Юдифи: здесь и уснувшая стража, и обезглавленный Олоферн, чья рука как бы судорожно тянется к оружию, другая же мертвенно повисла, а в центре сама красавица Юдифь, передавшая отрубленную голову служанке, которая держит её в корзине на высоко поднятых руках. Микеланджело по-своему решает эту часто встречающуюся в живописи сцену, внеся в неё некоторую интригу. Чтобы Юдифь смогла набросить плат на корзину с головой Олоферна, служанке пришлось чуть нагнуться. Юдифь всё ещё находится под воздействием свершившегося и не в силах оторвать глаз от поверженного врага. Этот её резкий поворот головы назад придаёт сцене поразительную жизненность и динамичность.
Считается, что живо написанные образы Юдифи и служанки напоминают две женские фигуры, вырезанные из оникса, которые украшали перстень Микеланджело, служивший ему печаткой и подаренный гравером Пьермария да Пешиа, который был восхищён сикстинскими фресками. Позже этот перстень каким-то образом оказался в Лувре.
Ниже в пазухах даны две сцены с библейскими героями, чьи имена указаны в картушах: Елеазар и Матфан, готовые к защите божественного закона, а на другой фреске старцы Иаков и Иосиф погружены в думы о судьбах своего народа. На противоположной стене под парусами также имелись две симметричные фрески, которые были замазаны при написании «Страшного суда». Две другие сферические плоскости над алтарной стеной намного выразительнее первых двух как по мастерству, так и по силе воздействия. Они служат обрамлением фигуре неистового пророка Ионы, который исполинским движением выламывается из сдерживающих его рамок виртуальной архитектуры. Его порыв подобно извержению вулкана передаётся соседним фрескам.
Первая трёхчастная композиция посвящена наказанию царского вельможи Амана, который пытался уничтожить еврейский народ, но сам вскоре оказался казнённым по наущению красавицы Эсфири, любимой жены персидского царя Артаксеркса, скрывшей своё иудейское происхождение. Это событие отмечается израильтянами во время Пурима — «праздника судьбы». Особенно впечатляет своим драматизмом и динамикой центральная сцена с приговорённым к распятию Аманом, чья обнажённая фигура написана с такой страстью, словно Микеланджело обрёл новые силы и вдохновение: взгляните только на отчаянный взмах рук смертника Амана и появившийся в дверном проёме прекрасный профиль Эсфири, следящей за казнью.
Столь же драматична фреска «Медный змей» на сюжет книги Исход. Когда народ Израилев, уставший бродить по пустыне, возроптал против Бога и Моисея, Господь наслал на него полчища ядовитых змей. Тогда пророк по приказу свыше сотворил медного змея и поместил на высоком шесте как символ спасения. На фреске толпы людей поклоняются змею. Их лица искажены ужасом, они толкают друг друга и тянутся к обвивающемуся вокруг высокого шеста спасительному змею. К нему тянется ручкой мальчик, сидящий у отца на закорках. Всем возроптавшим и в наказание укушенным гнусными тварями обещано исцеление.
До наступления осени Микеланджело успел дописать в треугольных плоскостях над окнами восемь небольших жанровых сцен, изображающих, как принято считать, предков Христа. В люнетах помещены старики, молодые мужчины и женщины с детьми — многие из них охвачены беспокойством. Чувствуется, что при написании этих сцен кистью художника, патриота и республиканца, водила боль — до него дошли сведения о вторжении испанцев в Тоскану, разграблении Прато солдатнёй и чинимом там произволе, от которого, как писал он в одном из писем, «возопили бы даже камни от ужаса».
Следует признать, что завершающие грандиозный цикл небольшие фрески блекнут на фоне героического звучания апофеозом во славу человека расписанного свода, на котором напряжение нарастает, подобно наплывающим мощным аккордам из симфонической поэмы Листа «Прелюды». Пластическая мощь фигур, подчёркивающая грандиозную поверхность свода, усиливается в значительной степени за счёт цветового решения росписи, где тона нагих тел, одеяний и пейзажных фонов отличаются колористическим разнообразием, обогащённым смелыми ракурсами и полутенями. Всё это отлично сочетается с желтовато-коричневыми и красновато-кирпичными оттенками, с серо-фиолетовыми, тёмно-зелёными и синими красками. Что касается элементов рисованной архитектуры, то все они выдержаны в благородном серовато-белом тоне с преобладанием серебристых оттенков.
Выдающееся значение творения Микеланджело состоит ещё и в том, что до него итальянская живопись не знала столь масштабных плафонных росписей. Как правило, сводчатые потолки крупных культовых и гражданских помещений украшались только декоративным орнаментом. Лишь в середине Кватроченто появляются плафонные росписи, выполненные, например, Мелоццо ди Форли в одной из часовен кафедрального собора Лорето, или фресковые росписи Мантеньи в небольшой квадратной зале — так называемой Camera degli Sposi — герцогского дворца в Мантуе. Как в первом, так и во втором случае размер росписи не идёт ни в какое сравнение с гигантским потолком Сикстинской капеллы площадью 600 м2 — и это без учёта расписанных парусов и распалубок.
* * *
Кроме усталости, накопившейся за четыре года работы над гигантским сводом, Микеланджело беспокоили серьёзные нелады со зрением. От долгого лежания на досках под потолком, когда он вынужден был смотреть вверх в одну точку, глаза часто покрывались мутной пеленой. При чтении ему приходилось высоко держать над головой книгу, чтобы разобрать текст. Способность читать и видеть более-менее нормально вернулась не сразу, и он ещё долго мучился от рези в глазах.
В память о годах, проведённых в Сикстине, Микеланджело решил в одном из рисунков шутливо изобразить себя с выпяченным животом и запрокинутой головой во время росписи потолка, когда ему приходилось целыми днями лежать на лесах на верхотуре, краска капала ему на лицо, но не было времени её стереть. Им был написан сонет с кодой, то есть наращением двух дополнительных терцетов. Сонет обращён к давнему приятелю по имени Джованни ди Бенедетто, литератору и канцлеру Флорентийской академии. В оригинале сбоку на листе имеется сделанная корявым почерком собственноручная приписка автора: «Тому самому Джованни, что из Пистойи».
Я нажил зоб усердьем и трудом
(Такою хворью от воды стоячей
В Ломбардии страдает род кошачий):
Мой подбородок сросся с животом.
Лежу я на лесах под потолком.
От краски брызжущей почти незрячий;
Как гарпия, на жёрдочке висячей —
Макушка вниз, а борода торчком.
Бока сдавили брюхо с потрохами.
Пошевелить ногами не могу —
Противовесом зад на шатком ложе,
И несподручно мне водить кистями.
Я согнут, как сирийский лук, в дугу;
С натуги вздулись волдыри на коже.
Быть скрюченным негоже.
Как цель разить, коль кругом голова?
Не ко двору я здесь — молва права,
И живопись мертва.
Тлетворен дух для фресок в Ватикане.
Спаси от злопыхателей, Джованни! (5)
Итак, величайший труд в истории мировой живописи завершился. Но был ли автор удовлетворён содеянным? На сей счёт нет прямых сведений, кроме шуточного сонета. Выше было отмечено, что даже у мрачно глядящего на мир Микеланджело порой прорывались весёлые нотки самоиронии. Но как бы сам автор ни относился к своему творению, общепризнано, что он вышел победителем в борьбе с сопротивляющейся косной материей и с самим собой, создав одно из величайших творений искусства Высокого Возрождения.