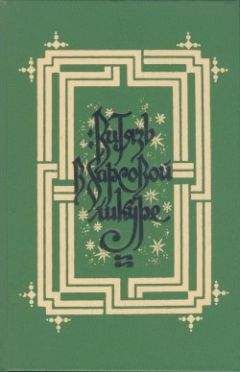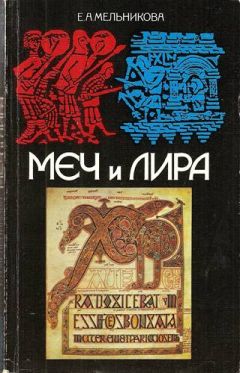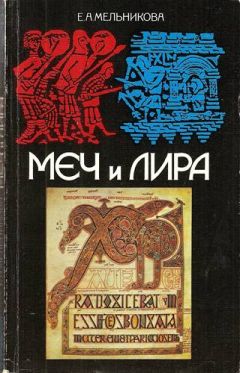Алексей Смирнов - Козьма Прутков
Есть также собрание моих лирических и эпических стихотворений, к которым присоединена драматическая поэма «Дон Жуан», переведенная на немецкий язык г-жою Павловой. Со времени издания этого сборника я написал много баллад и лирических стихотворений, рассеянных, главным образом, в «Вестнике Европы» и в «Русском вестнике»; из них я намерен в скором времени составить новый сборник. Лучшею из своих баллад считаю я ту, которая называется «Легенда»: она напечатана в «Вестнике Европы» за 1869 год (имеется в виду «Былина», первоначально озаглавленная «Змей Тугарин». — А. С.). Среди стихотворений, не вошедших в сборник, есть одно под заглавием «Поток-богатырь», в котором в сатирической форме изложены мои социально-политические взгляды. Оно имело огромный успех по всей России и навлекло на меня целую лавину оскорблений со стороны журналов. Три года назад оно было упомянуто в Вашей «Rivista Europea».
Резюмируя свое положение в нашей литературе, могу сказать не без удовольствия, что представляю собою пугало для наших демократов-социалистов и в то же время являюсь любимцем народа, покровителями которого они себя считают. Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что, в то время как журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером.
Вот, любезнейший мой де Губернатис, моя история, как внешняя, так и внутренняя. Боюсь, что она показалась Вам чересчур длинной, но, во всяком случае, я избавил Вас от своих сердечных дел, которые, принимая во внимание, как напряженно переживаются мною и страдания и радости, сыграли немаловажную роль в моей жизни и не могли не отразиться в произведениях. Впрочем, думаю, что в этом я разделяю судьбу всех вообще поэтов[419].
* * *Трудно примириться с тем, что сознание, способное на непрерывное творчество, извлекающее перлы поэзии из мгновенного впечатления, из обыкновенного житейского положения, умеющее увидеть прекрасное там, где никто вообще ничего не видит, обречено на угасание. Почему духу благородному, страстному, беспокойному, ищущему отведено на земле столько времени, что он не успевает воплотить и части своих намерений? В рамках земного бытия это необъяснимо. Говорят, что человеку легко представить конечное и невозможно — бесконечное. Но как раз предельность земной судьбы и не хочет принимать душа, недовоплотившая себя на земле.
Здоровье Толстого стало серьезно разлаживаться. Астма, мучительные головные боли, сердце… Он уезжал в Германию на воды, проводил зимы то в Венеции, то во Флоренции, однако избавления это не приносило. Его духовные силы крепли, а физические убывали.
Из Флоренции в феврале 1875 года он пишет своей немецкой переводчице Каролине Павловой: «Я был при смерти в деревне в Малороссии, и люди сердобольные, считая меня уже умершим, служили по мне заупокойные обедни. Я провел зиму в Ментоне около Ниццы и терпел там смертные муки из-за своей невралгии. Нынешней зимой они превратились в жжение всего туловища; это называется zona — вещь редкая, но невыносимая. Один врач в Париже прописал мне подкожные впрыскивания морфия, от которых боли прекратились как по волшебству. Я снова стал молод, бодр и весьма предприимчив. Я продолжаю это лечение под страхом вновь очутиться в аду…»[420]
Тогда же Толстой посылает большое письмо своей постоянной корреспондентке — другой Каролине — княгине Сайн-Витгенштейн. Оно связано с неким событием, имеющим прямое отношение к психологии творчества: «…со мной случилась странная вещь, которую я хочу Вам рассказать: во время моей большой болезни в деревне, так как я не мог ни лечь, ни спать сидя, я как-то ночью принялся писать маленькое стихотворение, которое мне пришло в голову. Я уже написал почти страницу, когда вдруг мои мысли смутились, и я потерял сознание.
Пришедши в себя, я хотел прочесть то, что я написал; бумага лежала передо мной, карандаш тоже, ничего в обстановке, окружающей меня, не изменилось, — а вместе с тем я не узнал ни одного слова в моем стихотворении. Я начал искать, переворачивать все мои бумаги, и не находил моего стихотворения. Пришлось признаться, что писал бессознательно, а вместе с тем мною овладела какая-то мучительная боль, которая состояла в том, что я непременно хотел вспомнить что-то, хотел удержать какую-то убегающую от меня мысль.
Это мучительное состояние становилось так сильно, что я пошел будить мою жену; она, с своей стороны, велела разбудить доктора, который велел мне сейчас же положить льду на голову и горчичники к ногам, — тогда равновесие установилось. Стихотворение, которое я написал совершенно бессознательно (nicht unverschamt, sondern unbereut — не без стыда, но не раскаиваясь, нем. — А. С.), недурно и напечатано в январской книжке этого года „Вестника Европы“…
Прозрачных облаков спокойное движенье,
Как дымкой солнечный перенимая свет,
То бледным золотом, то мягкой синей тенью
Окрашивает даль. Нам тихий свой привет
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,
Ни ярких красок нет. Землей пережита
Пора роскошных сил и мощных трепетаний;
Стремленья улеглись; иная красота
Сменила прежнюю; ликующего лета
Лучами сильными уж боле не согрета,
Природа вся полна последней теплоты;
Еше вдоль влажных меж красуются цветы,
А на пустых полях засохшие былины
Опутывает сеть дрожащей паутины;
Кружася медленно в безветрии лесном,
На землю желтый лист спадает за листом;
Невольно я слежу за ними взором думным,
И слышится мне в их падении бесшумном:
— Всему настал покой, прими ж его и ты,
Певец, державший стяг во имя красоты;
Проверь, усердно ли ее святое семя
Ты в борозды бросал, оставленные всеми,
По совести ль тобой задача свершена
И жатва дней твоих обильна иль скудна?
Во всяком случае, это — явление патологическое, довольно странное. Три раза в моей жизни я пережил это чувство — хотел уловить какое-то неуловимое воспоминание — но я не желал <бы> еще раз пройти через это, так как это чувство очень тяжелое и даже страшное. В том, что я написал, есть какого-то рода предчувствие — близкой смерти. Но, как видите, это не сбылось, что доказывает еще раз, что нельзя верить предчувствиям. Я далеко от всяких мрачных мыслей, и мне хочется петь тра-ла-ла!..»[421]
И тем не менее предчувствие не обмануло. Стихотворение было написано за год до смерти, а письмо — за семь месяцев.
В мае он еще успел признаться тому же адресату; «Я не злоупотребляю впрыскиванием морфина и продолжаю уменьшать дозы. Но все-таки они не только останавливают боли, но оживляют мои умственные силы, и если б они все это делали даже (но этого нет!) в ущерб моему здоровью, — к черту здоровье, лишь бы существовало искусство, потому что нет другой такой вещи, для которой стоило бы жить, кроме искусства!..»[422]