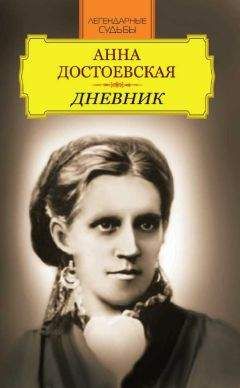Анна Масс - Писательские дачи. Рисунки по памяти
Вдруг возникали темы, которые жгли меня, просились на бумагу, и были они отнюдь не о положительных, а наоборот о трагических явлениях нашей жизни. Но рукописи такого рода оседали в ящике моего письменного стола без всякой надежды на публикацию. По-прежнему существовал термин: «Не проходимо». Вроде Берлинской стены. Пытаться тайком перелезть через нее — смелости не хватало. Было лишь робкое: а вдруг когда-нибудь…
Наградой за робость и послушание мне как члену Союза полагались дешевые путевки в Дома творчества, еженедельные продуктовые заказы, высокооплачиваемые бюллетени, две пачки хорошей финской бумаги раз в году, что при тогдашнем бумажном дефиците было далеко не мелочью; доступ в Книжную лавку писателей на Кузнецком, где я могла приобретать книги, не доступные покупателям не членам Союза. Были и другие льготы, о которых сейчас смешно вспоминать. Например, я имела право на меховую шапку-ушанку, которую выдавали членам Союза в литфондовском ателье. Товарищам, занимающим какую-нибудь более или менее начальственную должность, полагалась ондатровая, а мне по моему скромному рядовому рангу — кроличья.
Со временем меня начали включать в группы положительно зарекомендовавших себя писателей и посылать в республики и области Советского Союза — то на «неделю детской книжки», то на литературные семинары и конференции, то на встречи по поводу каких-нибудь торжественных дат. Я любила такие поездки. Писатели в них раскрепощались, завязывались взаимные симпатии, порой даже легкий флирт, и я в какой-то степени удовлетворяла желание почувствовать себя наконец-то своей в писательском коллективе.
Группы иногда были небольшие, а иногда — многолюдные, из разных городов — если, например, проходила декада детской литературы в какой-нибудь из Союзных республик. В таких случаях нас делили по трое-четверо и рассылали по разным городкам и поселкам республики, где мы выступали в школах, детских домах, интернатах и даже детских колониях. Поэты читали стихи, прозаики — прозу или что-нибудь рассказывали. У каждого из нас был свой репертуар, выработанный прежними выступлениями. Владимир Разумневич, например, обычно рассказывал что-нибудь завиральное про Василия Ивановича Чапаева — он писал книжки об этом знаменитом герое гражданской войны. Борису Камову, автору книжек об Аркадии Гайдаре, не давала покоя якобы куда-то пропавшая во время войны сумка Гайдара, таинственная сумка, в которой, как предполагал рассказчик, хранилась главная, заветная рукопись писателя-героя. Когда рассказчик с неиссякаемым энтузиазмом в пятый, восьмой, десятый раз в тех же словах и с теми же интонациями принимался рассказывать историю поисков этой мифической сумки, нам, его спутникам, хотелось его слегка придушить.
Андрей Усачев пел под гитару свои песенки, а один писатель из Литвы ничего не читал и не рассказывал, а играл на дудочке. В целом мы были похожи на подхалтуривающую труппу провинциальных артистов.
Советская глубинка открывалась нам в этих поездках во всей своей нищете и убогости. Облезлые пятиэтажки, за которыми прятались старинные, когда-то богатые, а теперь жалкие, полуразрушенные купеческие особняки, угрюмые очереди за куриными головами и лапами, пьянство, нищая интеллигенция, а над всем этим кумачовые лозунги: «Народ и партия едины!», «Слава КПСС!», «Претворим в жизнь решения XXIV съезда КПСС!»
В каждом городе для нас устраивались непременные приемы в райкоме или горкоме партии, где вышколенные секретарши приносили нам чай с пирожными, а величественный первый секретарь рапортовал про бесконечное улучшение жизни народонаселения.
В последние дни мероприятия нас всех собирали в столице республики, размещали в лучшей гостинице, и высокое руководство устраивало в нашу честь торжественное действо с обязательным возложением венка к памятнику Ленина, пышными застольями, славословиями в адрес родной коммунистической партии и лично Леонида Ильича Брежнева, с праздничным концертом в лучшем Дворце культуры города.
Почти всех нас тошнило от этой показухи, особенно, когда мы вспоминали голодные глаза сирот из детских домов и понурые, бледные лица подростков из детских колоний. Но мы соблюдали правила игры и исправно нажирались на всех устраиваемых в нашу честь банкетах, а многие и напивались.
Обычно меня объединяли в одну группу с Леонидом Яхниным. Мы с ним раньше были знакомы через Шуру Червинского: они оба закончили архитектурный институт, оба вскоре оставили архитектуру ради высокой словесности. Шура ушел в кинодраматурги, а Лёня обрел себя в жанре дошкольной поэзии и прозы. Он был обаятелен, дружелюбен, покладист, обладал чувством юмора, умел смягчать возникавшие порой в наших выездных бригадах конфликты. За годы наших совместных поездок мы с ним хорошо сработались, стали чем-то вроде эстрадной пары. Он читал непритязательные стишки, рассказывал что-нибудь смешное, остроумно отвечал на вопросы. А я брала аудиторию байками на геологические темы. У меня было несколько таких дежурных баек, самая любимая — о ядовитой фаланге, обитающей на полуострове Мангышлак. В районах, где мы выступали, подобных насекомых не водилось, и я давала волю фантазии.
Вообще-то, фаланга — насекомое довольно безобидное, хотя запросто может сгрызть небольшую ящерицу. Но за годы моих выступлений она обросла такими развесистыми подробностями, что, в конце концов, превратилась во что-то вроде трехголового Змея Горыныча, пожирателя геологов.
Не знаю, как Лёня выдерживал эту мою чуть ли не на каждом выступлении повторяемую историю о кровожадном степном драконе. Возможно, ему хотелось меня придушить, как и автора притчи о мистической сумке Гайдара. Но он был добрый и терпел. Дети, однако, слушали, раскрыв рты.
В конце концов по сравнению с окружавшей нас идеологической брехней моя фаланга была невинным романтическим вымыслом, и я не слишком угрызалась совестью.
Эта фаланга кормила меня много лет (от бюро пропаганды мне платили 15 рублей за выступление), и я до сих пор вспоминаю о ней с благодарностью.
С незатейливыми Лёниными стишками и моей фалангой (конечно, я и тут преувеличиваю, у меня и кроме нее было много разных историй) мы с Лёней объездили множество городов, побывали даже на Таймыре. Часто после выступлений нам дарили что-нибудь из местных деликатесов: копченую рыбку где-нибудь в Норильске, по поллитровой банке красной икры в Гурьеве. Это были щедрые подарки, потому что в местных магазинах, как и всюду в стране, с продуктами было очень плохо. Да и в Москве о подобном в те годы можно было только мечтать.
По возвращении мы разбредались по своим семьям. Я — к Вите и детям, Лёня — к своей очередной жене — он их в те годы менял довольно регулярно, ухитряясь при этом проводить вечера в ЦДЛ с друзьями. Наши дружеские отношения угасали — до следующей поездки. При встречах радовались, говорили общие слова — и расходились. Тяги не хватало, чувства необходимости. Снова ущемление и неприкаянно чувствовала я себя в писательской среде, плотной и отталкивающей, как вода Мертвого моря. Хотя всегда можно было пойти в ЦДЛ на интересный концерт, выставку, хороший фильм. В уютном кафе со стенами, разрисованными дружескими шаржами, исписанными автографами знаменитостей, просиживали вечера завсегдатаи клуба, пили, шумели, ссорились, рассказывали анекдоты. Они тут были свои. А меня строгие церберши при входе в Дом литераторов демонстративно каждый раз не узнавали и требовали предъявить писательский билет. Нюхом чуяли, что я тут «не своя».