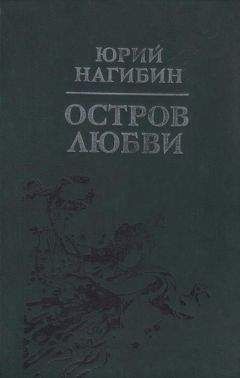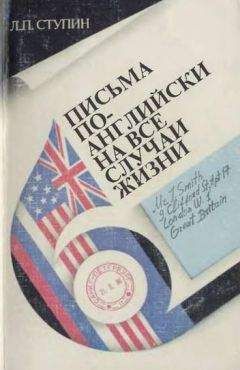Михаил Байтальский - Тетради для внуков
Но Дмитро ответить на это не сумеет, да и никакой другой Дмитро – тоже, поэтому Гнатюк разражается бешеной бранью. Цитировать ее не берусь, тем более, что и так я уделил слишком много времени еврейскому государству, само право которого на существование на этой земле еще не выяснено. Так что – вернемся к нашим баранам, за которыми так хорошо наблюдается с высоты второго яруса нар.
Что же еще сказать о Гнатюке, чтобы не получилось, будто я рассказываю только часть правды? Кроме идейного руководства, он промышлял стукачеством, затем освободился. Курилка жив. Где он читает свои лекции теперь, точных сведений не имею. Могу лишь догадываться.
Напротив Гнатюка, в привилегированном углу возле печки, спит Иван Воронов, старший дневальный барака. В старшие дневальные назначают особо доверенного зека. Он следит не только за внешней чистотой. Воронов давно ходит в старших. Это верзила с грустным взглядом красивых черных глаз, настоящий волоокий красавец. В годы оккупации он настолько преданно служил в гестапо, что получил офицерский чин. Советский суд заменил ему расстрел двадцатью пятью годами каторги, так как он дал возможность бежать двум советским военнопленным. Что-то стряслось с ним в тот необыкновенный день.
Ждать излияний от Воронова мне не приходилось. Но в темный зимний день, когда ночная смена спала, а я лежал с открытыми глазами, он подсел и заговорил. Может, он ждал ответной откровенности?
Иван начал со своего детства. Он из богатых донских казаков. Отца раскулачили и сослали, мать ушла с детьми в город. Иван рассказывал скупо, но я понял, что он хорошо запомнил эти трудные годы и отомстил за них полной мерой. Советская власть учила его. Он закончил горный техникум и работал в шахте десятником, когда началась война… Тут Иван замолчал и пошел отдавать приказания: в бараке мыли полы, он старшой, должен наблюдать за этим, такова его каторжная работа.
Шли месяцы. Мы с Иваном больше не вели бесед. Однажды в барак явились надзиратели с очередным мероприятием: вышло указание (надо запрещать что-то время от времени, иначе – какой же ты начальник!), чтобы зека ничего не держали в изголовьях и под матрацами. Тумбочек в бараке было совсем немного, поэтому и клали пайки в изголовье. Да и воровства опасались, хотя шакалам (объяснять это слово, полагаю, нет нужды) спуску не было. Так вот, держите хлеб где угодно, но не в изголовьях.
Недалеко от меня спал немец, бывший летчик. Он много читал, обменивался литературой с другими немцами и имел несколько своих книг на немецком и английском. Воронов подступил к нему с требованием: очистить все на нарах! Тот – спорить: от книг грязи не бывает. Иван схватил книги, немец – не давать. Почти не коверкая языка, бывший гитлеровский летчик послал бывшего офицера гитлеровской тайной полиции к известной матери.
Красивые черные глаза Воронова загорелись жестоким блеском.
– Ах ты, немецкая харя! Меня, русского человека, ты посылаешь к такой-то матери? Сам иди к такой и распротакой матери, немецкая морда! – Он подозвал надзирателей, присланных для наведения чистоты, и повторил:
– Вот этот немец оскорбляет меня, русского человека! Ишь, ворчит еще что-то по-своему, немецкая харя!
Наглого немца, оскорбителя русских, увели в изолятор. Так Иван Воронов, бывший слуга немцев, снова стал русским.
… После знакомства с немецким офицером Иваном Вороновым уместно рассмотреть преступление и наказание молодого демобилизованного советского матроса Бориса Рабина. Он тоже получил двадцать пять лет.
Дело было так. Он зашел в ресторан, выпил и, повздорив с заведующим, дал ему пощечину, а потом оказал сопротивление милиционерам, которых тот вызвал. Не стрелял, даже перочинным ножом не размахивал, но сопротивлялся.
Бориса Рабина судили. Я читал приговор – ему выдали копию. Обвиняемый, сидя в ресторане, заказал оркестру националистический еврейский танец "Фрейлехс". Заметьте, не национальный, а националистический! Заведующий рестораном, истинный пролетарский интернационалист, запретил играть мелодию, полную расовой ненависти. А Рабину он сказал, что не позволит исполнять в советском увеселительном заведении всякую жидовскую музыку. За что и схлопотал пощечину.
Мое знакомство с Борисом было непродолжительным. В 1956 году его обвинение переквалифицировали на хулиганство, зачли отсиженное, и он уехал. Я до сих пор не забыл фамилию его судьи: Тетеря, служитель справедливости, пролетарский интернационалист, борющийся против мирового сионизма.
За свое "хулиганство" Борис отсидел пять лет – и ему еще повезло.
Теперь вам ясно: если бы я отвесил Гнатюку оплеуху за его вечные "лекции" о жидах – кто из нас двоих получил бы увесистый добавок?
46. Высланные голосуют
Эту главу я посвящаю мальчику, единственному выжившему из девяноста крымских татар, брошенных в каторжный ОЛП шахтоуправления № 1.
Рассказывая о своем аресте весной 1950 года, я пропустил выборы в Верховный Совет, проходившие незадолго до этого. Я успел до ареста опустить в урну два бюллетеня, в каждом из которых была напечатана фамилия одного кандидата: в одном – Сталина, в другом – писателя Павленко. Я не знал его тогда – "Счастье" прочел позже.
В пятидесятом году лагеря были набиты битком. Все, кого Сталин хотел убить, были уже убиты, все высланные народы успели уже привыкнуть к новым кладбищам для мертвецов своих. Присланные в Воркуту крымские татары успели умереть все – кроме одного мальчика. В жизни не видевшие снежной бури, они ходили синие от холода. Работать у них не было сил, а от штрафного пайка они слабели еще более, тощали и синели. Штрафной паек карает не выполняющих норму – смертью! Дрожа в своих лохмотьях, они рылись в помойке позади лагерной кухни. Доходяга подняться самостоятельно уже не способен, а его спасение силами лагеря было бы поблажкой неработающим – и потому оно решительно отвергается всей программой лагеря и всем его бытом. Закон лагерной жизни – неписаный, но непререкаемый, являющийся прямым продолжением его писаных законов, гласит: доходяге – смерть!
Так все крымские татары и дошли в одну зиму от пеллагры – 89 человек из 90, привезенных в наш каторжный ОЛП. Весной их трупы уже плавали в талой глине лагерного кладбища.
… Сколько же граждан нашей страны было, подобно крымским татарам или балкарцам из Белой Речки, разбужено однажды на рассвете?
Судя по данным последней (1959 г.) переписи – около трех миллионов. Но крымские татары в них не числятся и умершие ускоренной смертью – тоже. Значит, выселили более трех миллионов. Восемь малых народов в одну ночь вырвали из родной почвы за предполагаемое недовольство Сталиным. В ту ночь предполагаемое стало действительным.