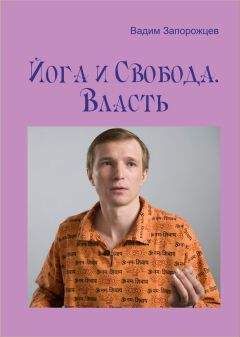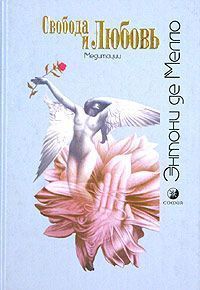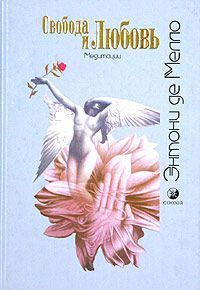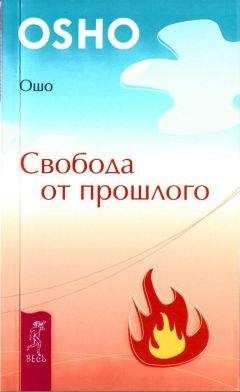Нина Соболева - Год рождения тысяча девятьсот двадцать третий
Да и, честно говоря, был бы, к примеру, нашим автором хоть сам Лев Толстой или Достоевский, то и тогда мы нашли бы к чему «придраться». По мелочам, не по-крупному, но нашли бы… И тут же ловлю себя на мысли: а вот Бунина или Чехова мне почему-то никогда не хотелось «редактировать». Наоборот, цепной собакой охраняла бы каждое слово, запятую от желания кого-либо «посягнуть» на них! В общем, теперь я уже не думаю, что трудности прохождения рукописи через редактуру нашего «триумвирата» имеют причиной мою неопытность, неспособность (хотя в какой-то степени это и так — я еще так мало знаю и умею). Более опытная, с большим стажем работы, сама человек пишущий моя коллега Н. В. Малюкова тоже, подобно мне, ходит с каждой рукописью «своего» автора от одного стола к другому и, пока соберет все три подписи, тоже несколько раз за голову хватается. Или начинает скандалить, защищая «своего» автора и приходит торжествующая, если удалось что-то «отстоять». Я тоже понемножку «оттачиваю зубы» и огрызаюсь, когда мне кажется, что моего подопечного автора слишком «стригут». Может, роль редактора и сводится, главным образом, к «отстаиванию интересов» своего автора? Ну, а как быть, если многочисленная «правка» всех, приложивших руку к рукописи, действительно идет «на пользу» произведению, хотя индивидуальность автора при этом, конечно же, стирается? Охранять в таком случае автора? И что считать его «интересами»?
Впрочем, настоящий автор сам стоит на страже своих интересов, и если талант его достаточно своеобразен, то и редакторы вынуждены с ним поосторожнее обращаться, так как каждая «заплатка» сразу лезет в глаза, поэтому десять раз подумаешь, прежде чем ее поставить.
Вот таким автором, строго охраняющим каждое слово и не терпящим «стрижки», является Оскар Адольфович Хавкин. И, хотя меня и пугали «трудностью» его характера, я искренне уважаю его за эти качества. Работать с ним мне было трудно, но чрезвычайно интересно. И полезно: я каждое свое замечание тщательно аргументировала, искала наиболее убедительную и необидную форму своей мысли. «Списочек» моих заметок к его роману составил что-то около ста страничек мелким почерком. В редакции смеялись: «Вы, кажется, свой «роман» пишете под впечатлением романа Хавкина». А я действительно писала свои «заметки» к каждой страничке его романа на отдельных листках, а не на полях рукописи, как это принято. Кстати, как, вероятно, тошно автору получать свою рукопись, исчирканную вдоль и поперек редакторским карандашом да еще с «остроумными» замечаниями двух, а то и трех рецензентов на полях. Я часто думала об этом и в работе с Хавкиным решила рукопись его не трогать, чтоб осталась чистой, а все заметки — отдельно. И, надо сказать, метод этот оправдал себя. При нашей первой встрече (он приезжал в Новосибирск весной) и потом, в переписке, Хавкин ни разу не проявил своего «трудного» характера, раздражения, и очень многое из того, что было предложено мною, принял и исправил, дописал.
А сегодня я получила письмо от него — и это как прозрение! Пусть не выглядит хвастовством, но я не могу удержаться, чтоб не выписать из этого письма один абзац, т. к. одно такое письмо может вознаградить за все тяготы редакторской работы: и нервотрепку с корректурами, и маяту с графоманами, и непомерный груз ежедневного «самотека», от которого иссушается сердце и тупеет ум. В общем, все-все можно нести безропотно, если хоть иногда получаешь от своего автора, уже пожилого человека, письмо, подобное тому, что получила я от О.А.
«Прочитав заново рукопись, Вы заметите, что Ваша серьезная, скрупулезная, придирчивая работа над текстом не пропала зря — ни в мелочах, ни в крупном. Там, в Новосибирске, я не мог оценить все Ваши советы и замечания, но когда пошел от строки к строке, когда заново окунулся в свой роман, вошел в атмосферу и направленность Вашего смыслового, стилистического, фразеологического анализа, тогда я по-настоящему понял, сколько душевного напряжения, сколько глубины и вкуса в Вашем разборе, в Ваших предложениях и замечаниях. Что, с моей стороны, это не пустые слова, доказывает проделанная мною работа. Мне, старому литератору, не стыдно — радостно признаться в том, что я почувствовал добрую, верную, точную редакторскую руку».
28 августа
Перебирая старые записи еще в бытность моей работы на студии телевидения, я наткнулась на две об интересных людях, с которыми мне пришлось столкнуться. Было бы жаль, если бы они затерялись, поэтому перепишу их сюда.
Первая запись о главном художнике театра «Красный факел» Василии Юрьевиче Шапорине (года три назад его пригласили в Москву, и он уехал туда).
В. Ю. — сын композитора Шапорина, выходец из дворянской семьи, в детстве частенько бывал с отцом в доме Алексея Толстого. Помнит Горького, Ромена Роллана, встречался со многими интересными людьми. В нем уживаются барские замашки, избалованность вниманием и в то же время какая-то детская непосредственность, простота в обращении, умение шумно проявлять и свои восторги, и свой гнев, и тогда в его изысканном лексиконе появляются вдруг блатные словечки, а то и матерщинка, приправленная французскими афоризмами, и ему уже «все до фени».
Я зашла к нему как-то по поводу эскизов декораций нового спектакля, о котором готовилась телепередача, и застала Василия Юрьевича в «растрепанных чувствах», мечущегося по своей большой квартире, отшвыривающего картоны и кисти, попадающиеся почему-то под ноги, и частящего на чем свет стоит «всех и всяческих баб».
Любка — его одиннадцатилетняя дочка — меланхоличная девочка с русой косой ходила следом, пыталась распихать по местам книги, диванные подушки, но вскоре это ей надоело. Забравшись с ногами в большое старинное кресло, углубилась в книгу, время от времени прислушиваясь к словоизвержениям отца, но оставаясь совершенно спокойной, т. к. к подобным сценам привыкла.
Чувствуя, что пришла не вовремя, я хотела ускользнуть, но это мне не удалось. Видимо, В. Ю. как раз не доставало слушателя — он с каким-то даже удовольствием обрушил на меня все филиппики в адрес «слабого пола». Уловив, что это ко мне не относится и в данный момент я для В. Ю. не являюсь «представительницей слабого пола», я рискнула робко спросить, чем он расстроен. И совершила ошибку — этого вопроса он только и ожидал: «А вам известно, что моя Сонька сбежала с академиком?!» — рявкнул он. Мне менее всего хотелось выслушивать все обстоятельства этой семейной драмы, но все пути к отступлению были отрезаны, и, вероятно, часа полтора В. Ю. бегал взад и вперед по комнате и изрыгал проклятья в адрес «коварной Соньки». Люба, услышав, что разговор свернул на эту тему, встала и ушла в свою комнату. И я хоть перевела дух: ни на какие мои предостерегающие жесты и взгляды в сторону девочки В. Ю. не реагировал, да еще и отмахивался: «Ничего! Любка у меня умница, она все понимает».