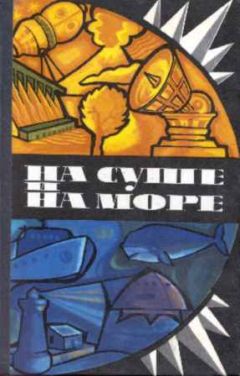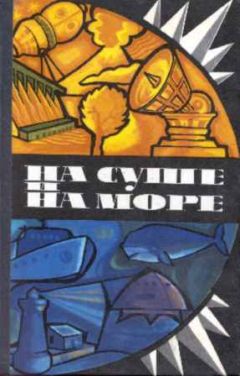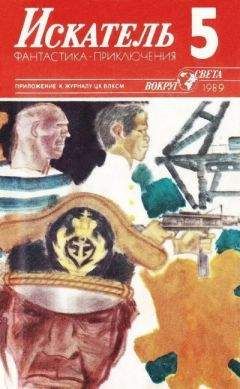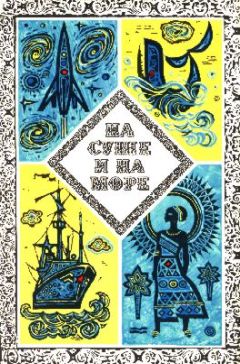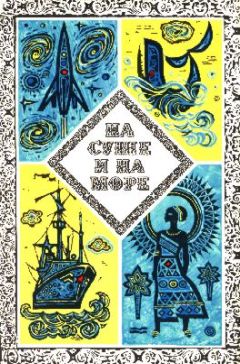Виктор Петелин - Алексей Толстой
Толстой вовсе и не предполагал, закончив пьесу «Орел и орлица», что ему придется продолжить драматическое повествование об Иване Грозном. Это выяснилось на обсуждении пьесы, которое состоялось уже в Ташкенте, куда он переехал в ноябре 1941 года. Здесь в кругу ученых, писателей, деятелей театра Толстой впервые прочитал свою пьесу. Он опасался, что будут придираться к языку, к выдуманным им деталям, Но академики Греков, Шишмарев, Виппер и другие высоко отозвались о пьесе. 14 марта в газете «Литература и искусство» появилась заметка об этом факте литературной жизни: «Собравшиеся с затаенным дыханием вслушивались в музыку русской речи XVI века, столь блестяще воскрешенной автором».
Через неделю в той же газете появился отрывок из пьесы. Толстой отправил текст директору Малого театра И. Я. Судакову и директору Художественного театра В. И. Немировичу-Данченко. Оба театра дали восторженные отзывы. В частности, Немирович-Данченко писал: «Толстой талант огромный. В исторических картинах по выписанности фигур, по языку, я не боюсь сказать, что не знаю ему равных во всей нашей литературе. Ряд сцен в его пьесе превосходит все, им до сих пор написанное».
Неожиданно все переменилось. Председатель Комитета по делам искусств М. Б. Храпченко в статье «Современная советская драматургия» упрекнул Толстого в том, что Иван Грозный показан у него преимущественно в личном быту и пьеса не решает задачи исторической реабилитации его. После этого посыпались упреки. Судаков, озадаченный выступлением Храпченко, направил Толстому письмо, в котором просил переделать пьесу. «Переделки ни к чему не приведут. В ноябре будет новая пьеса», — телеграфировал Толстой Судакову. Так возникла мысль о продолжении драматической повести, с тем чтобы показать широкий размах государственных преобразований, осуществленных Иваном IV. «Трудные годы» — так Толстой назвал свою вторую пьесу об Иване Грозном.
18 ноября 1942 года он выступил в Свердловске с докладом «Четверть века советской литературы» на юбилейной сессии Академии наук CCCР, посвященной 25-летию Советской власти. Толстой говорил: «Двадцатипятилетие советской литературы лежит между двумя мировыми войнами. В нынешней войне, особенной и небывалой, человечество потрясено в основах бытия, и народные массы призваны к повышенному волевому и моральному состоянию. Нынешняя война — это война моторов. Это так, но это не полное определение: моторов и силы преодоления страданий, нравственной силы. В этой войне не счастье, не случай и не только талант полководца принесут победу; победит та сторона, у которой больше моторов и тверже нравственный дух народа… Советская литература в своем художественном развитии от человека массы пришла через четверть века к индивидуальному человеку, представителю воюющего народа, от пафоса космополитизма, а порою и псевдоинтернационализма пришла к Године, как к одной из самых глубоких и поэтических своих тем».
Вскоре после этого Толстой прибыл в Москву и 29 ноября выступил на антифашистском митинге работников литературы и искусств в Колонном зале Дома Союзов. И снова статьи, выступления, статьи, заседания, поездки по освобожденным местам в качестве члена Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
13 января 1943 года, выступая в Московском клубе писателей, где состоялось его чествование по случаю шестидесятилетия и награждения орденом Трудового Краеного Знамени, Толстой сказал:
— Дожил я до шестидесяти лет. В мирные времена тут-то бы и начать писать мемуары и сажать розы. Но другая сила зовет нас под старость снова в шумный, грозный водоворот жизни. Все силы отдать нашему народу в его борьбе с фашизмом и после победы все силы отдать для реконструкции нашего Отечества — вот что лишает нас всякого права ощущать свою старость. Наша молодость — в любви и преданности нашему народу, который выполняет великую историческую миссию спасения человечества и гуманитарной культуры от неслыханной опасности…
Статьи, статьи, статьи… Редко когда найдется время для работы над второй частью драматической повести об Иване Грозном. Да и что-то не чувствуется у Толстого того творческого подъема, который ощущал он, работая над первым вариантом «Орла и орлицы». Уж слишком много раздавалось замечаний по его адресу. Слишком многие требовали тех или иных поправок и переделок. Естественно, он пытался что-то сделать приемлемое для него. Но возникали новые… Во всяком случае, постановка пьесы затягивалась, и это раздражало Толстого… Много сил забирала Чрезвычайная государственная комиссия. Возвращался Толстой с освобожденных территорий весь черный от увиденного и пережитого. Он всегда избегал страшного в жизни, сторонился смертей, похорон, а тут не мог уклониться. И увидел такие бездны человеческой подлости и опустошения, такие страдания человечества, что душа его ужаснулась. Он все чаще стал жаловаться на усталость, как ни бодрился. Особенно тягостной была для него поездка в качестве корреспондента «Правды» в Харьков на судебный процесс по делу немецких преступников. За короткий срок «Правда» опубликовала его статьи «Фашистские преступники», «Палачи», «Варвары», «Возмездие». Только после этого, накануне нового, 1944 года, он взялся за «Петра».
***Жизнь в Барвихе понемногу налаживалась. Советские войска неудержимо продвигались на запад. Успехи на фронте наполняли душу Толстого радостью и гордостью за свой героический народ. И он никогда еще, пожалуй, с таким подъемом и удовольствием не садился за письменяый стол. Дело не только в том, что соскучился по своим героям, оставленным на полдороге десять лет тому назад. Дело в том, что сейчас их деяния, направленные на освобождение исконных русских земель, как нельзя лучше отвечали патриотическим чувствам сегодняшнего читателя, с неослабным вниманием следящего за героическими действиями Красной Армии.
Третья книга романа «Петр Первый», по характеристике самого автора, должна была стать самой главной частью романа, во всяком случае, она должна была охватить самый интересный период жизни главного героя: Толстой намеревался показать законодательную деятельность Петра, его новаторство при изменении уклада русской жизни, дать картины не только русской жизни, но и вместе со своими героями побывать во Франции, Польше, Голландии. В частности, он твердо собирался одну из глав посвятить пребыванию Александры Волковой в Париже, где она должна была затмить всех тамошних красавиц и не одного француза свести с ума своей неотразимой красотой. Но эту главу он все время почему-то откладывал. Может, потому, что как-то невольно увлекся мирными картинами старомосковского быта, образом царевны Натальи Алексеевны и ее идеей создать в России русский театр, и незаметно для него отодвинулась гигантская фигура Петра со всеми его штурмами, осадами, строительством новых городов. Хотелось чуть-чуть отдохнуть от войны, хотя и быт старой Москвы весь был подчинен нуждам войны. Во всех московских кузницах работали на войну, даже конопляной веревочки невозможно было купить. Торговля замерла, деловая жизнь утихла, только недреманное око Ромодановского бдительно следит за назревающим новым заговором против Петра. Да царевна Наталья Алексеевна от всего сердца старается помочь в деле преобразования России своему братцу, который, уезжая на войну, просил ее, чтобы она не давала покоя старозаветным бородачам, всячески шевелила их. Петр уже появился в его третьей книге. Военную передышку он использовал для укрепления армии, ее снабжения всеми необходимыми средствами для достижения победы над шведами. Всеми помыслами он на севере страны. Здесь, на краю земли русской, строился Питербурх. Его указ, чтобы «отныне знатность по годности считали», способствовал выдвижению на самые высокие государственные посты тех, кто выделился среди его помощников своим умом, деловитостью, энергией, знаниями. За одним столом усаживались и особы княжеского, даже королевского рода, и так называемые худородные, не забывшие еще своих курных изб, где родились и выросли. При Петре так уж повелось, что каждый мог высказываться до конца, не таясь, но последнее слово всегда оставалось за Петром.