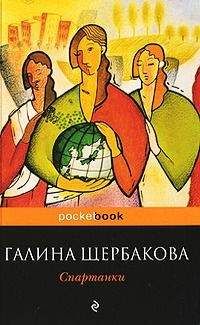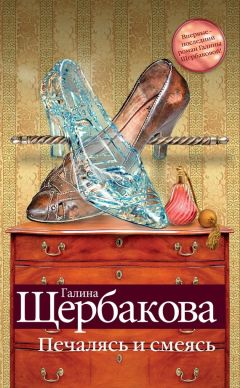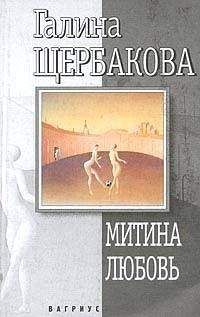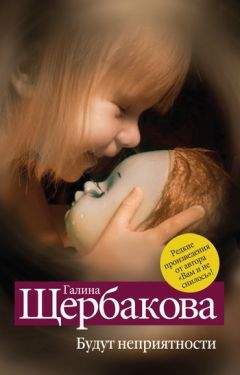Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой
Так вот, двадцать с лишним лет тому я была с первыми». Потому как «еще в нашей стране не кричали о сексуальной революции, еще не разучились смущаться. Любовь еще была нежна и прекрасна, как трепетная лань».
Но все это было, повторю, двадцать лет назад от 2005 года!
Впрочем, еще и тогда, в 1985-м… «Я сама тысячу раз попадала в ситуацию безнадежности перед миром собственных детей.
Мы проигрываем в своей жизни все ситуации дважды: вначале как дети, потом как родители. И в этих двух своих ролях мы бываем не то что не похожи, мы бываем противоположны. Противоположны самим себе. Тем, которыми нам надлежало бы быть. Ведь должен же быть, жить в нас тот истинный «я», от которого мы порой уходим далеко-далеко, запутавшись в противоречиях, сомнениях, руководствуясь не стремлением быть самим собой, а вымороченной идеей соответствовать то ли занимаемому месту, то ли родительскому назначению, то ли еще чему». То есть да, представления и понятия писательницы перестраивались вместе с жизнью – собственной, страны и мира, и она поступала в соответствии с ними.
Я не хочу ни в чем упрекать приверженцев когда-то усвоенных и до самой смерти хранимых в неприкасаемости канонов существования (к ним, мне показалось, и стала принадлежать наша взрослая Катя), но, бог мой, как я восхищаюсь природной, глубинной изменчивостью моей пожизненной избранницы. Ее внутренний мир, неизменно обновлявшийся, был подобен стремительно растущему котенку или пушкинскому князю Гвидону. Его натиск с необычайной силой вытолкнул ее на писательскую стезю: «Вышиб дно и вышел вон».
С какого-то момента с нее не хотелось спускать глаз, чтобы не пропустить что-то новое. «В свои молодые годы я была достаточно категоричной, была из породы тех противных людей, которые считают, что знают что и знают как». И она же через некоторое время: «Если ты сам не можешь разобраться в своей душе, не лезь в другую». Досада на себя, что поздно начала писательство, породила стремление работать как можно больше и быстрее. Однако и это, казалось бы, бесспорное требование к себе по трезвому размышлению перерастает в свою противоположность: «А жить надо медленно». Или вот. «Идеалистами держится мир». Но – «Поступайтесь принципами, ребята, поступайтесь. Другого пути человеческого развития, пути стать лучше нету». И это, и многое парадоксальное другое всегда говорилось из сиюминутных побуждений ее переливчатого, аритмичного, как ее сердцебиение, артистического душевного мира. За пятьдесят лет – ни мгновения скуки!
III…Вот что не раз говорили близкие люди не только Галине, но и мне: вы неправильно воспитывали свою дочь. Я не спорил с этим утверждением. Но и не был согласен с ним. В моем представлении нормальные в умственном отношении люди никого не воспитывают, а просто живут.
В связи с этими размышлениями я вспомнил любопытное наблюдение над природой человеческих типов. Не мое, а Ролана Быкова, редкостно внимательного ко всему живущему.
Было так. Кто-то в редакции (в «Комсомолке», едва ли не Валерий Аграновский) сказал мне:
– Старик, это твоя тема. Школьная училка невзлюбила одного мальчишку и доводит его едва ли не до самоубийства.
«Мальчишкой» оказался Павел, приемный сын Ролана Быкова. Я приехал к режиссеру на «Мосфильм». Там было до удивления безлюдно. Я открыл дверь с надписью «Внимание, черепаха!». Быков ждал меня. Но почему-то не спешил переходить к теме разговора, намеченного вчера по телефону.
– Так что у вас случилось? – спросил я.
– А, одна шкрабская лахудра прицепилась к моему парню… Слушай, давай я покажу тебе мое новое кино… Скажешь свое мнение…
И мы вдвоем в крохотном зальце смотрели еще не вышедший фильм «Внимание, черепаха!». После чего уже я забыл, зачем пришел. И только собираясь уходить, спохватился:
– А что же будем делать с лахудрой?
– Да лучше их не трогать. Хуже будет, загнобят совсем.
После этого я Ролана Быкова не видел. Но слышал много. Я регулярно звонил ему по телефону, подбивая его написать что-то «на детскую тему» (сначала для «Комсомолки», потом для «Журналиста», потом для «Огонька»). Он часто отвечал, что, конечно, напишет, иногда – что абсолютно нет времени. Но всегда разговор заканчивался его монологом-вариацией по вопросу нашего всеобщего непонимания детей и детства как такового. Порой Ролан Антонович вступал в разговор безучастно, говорил, что устал, но, как только я называл тему предполагаемого выступления, быстро заводился и начинал фонтанировать идеями. Я раза два предложил ему все это говорить под магнитофон, но он был категорически против: «Все напишу сам».
Так к чему это я?..
После фильма «Внимание, черепаха!» – сеанса для двоих – Быков в числе прочего сказал, как не любит советское детское кино. Прежде всего из-за того, что там все персонажи-дети в личностном плане на одно лицо. «А присмотрись к ним: вот этот точно буквоед, а вот та – уже в пять лет видно, что шлюха. Все извечно заложено и известно».
Мы любим детей за все, в том числе и за тотальную милоту, кого бы из взрослых они ни напоминали. И через нее очень трудно разглядеть то, о чем говорил Быков. Однако когда уже это имеешь в виду… Может быть, наша дочь «играет роль» в своей жизни не столько в пресловутых предложенных обстоятельствах, сколько в рамках самой ее природы (генетической)?
И однажды в этих моих размышлениях на одном плане сознания нежданно сошлись два человека – в разное время и по-разному любимых мной. Они не просто оказались похожими, а как бы вошли друг в друга – по сходству известных мне поступков.
…Как сейчас помню застывшее лицо мамы, когда я спросил у нее о чем-то про ее младшую сестру Регину. «Не надо о ней», – сказала она. И все. Самая последняя в большущей уральской семье, всеобщая любимица, незадолго до этого не приехала на похороны матери, Александры Васильевны.
Говорили тогда, что они из-за чего-то повздорили. Но я в тот приезд, обходя многочисленную родню, не мог выяснить ничего. Как, впрочем, и позднее. Никто не хотел не то что говорить о Регине, но и упоминать ее имя. Я понял: все прижизненные обстоятельства были обесценены. Имело значение одно: она не хоронила свою мать.
Мне было жалко Регину. Мне были дороги наши голодные и холодные детские приключения, когда старшие ковали великую победу. Как-то я сказал об этом маме. И… больше такого себе не позволял. Она не хоронила свою мать. И все.
Через сколько-то лет после того, как не стало уже моей мамы, я листал в доме родителей семейные альбомы. И не нашел ни одной фотокарточки, где была бы Регина.
В какой-то мере я осознал резон этого отношения, когда не стало Гали. В глубине души я надеялся, что волей-неволей пришедшая на могилу дочь перед ликом смерти забудет распри. Конечно, я был жертвой не самой первосортной литературы: не раз читал о такого рода преображениях. Но уж очень хотелось верить…