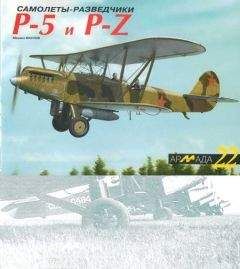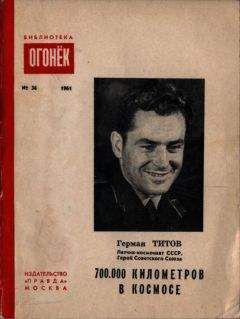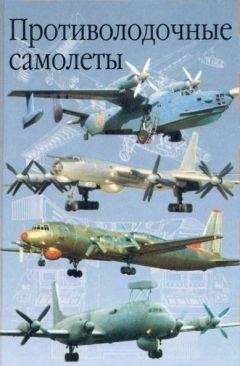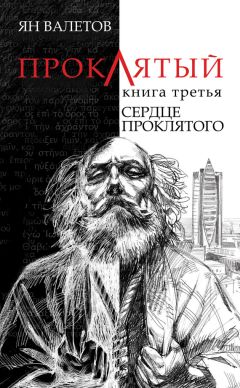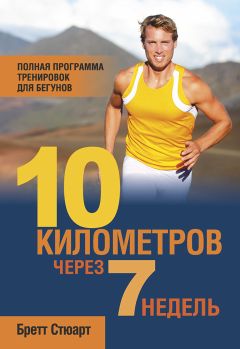Леонид Семенов - Грешный грешным
В Петровском долго ходили по парку. Она останавливалась иногда, что-то долго думала, устремляла глаза, блестевшие влагой, к небу, то строгие, то ясные, иногда улыбка озаряла лицо и сияла любовью ко мне, но молчала и уж не смеялась, как раньше. Молчал и я, боясь мешать ей, но все более и более далеким и отходящим от нее чувствовал себя из-за своей нечистоты и мучительно скрытой мысли, которую по-прежнему не мог отогнать и про которую по-прежнему знал, что она мерзка.
Потом на квартире нужно было побыть и с хозяйкой дачи, старушкой, и ее дочерью. Вечером в мезонине опять вдвоем. Нам отвели две комнаты. Теперь уже не мог долго оставаться с ней — так страшно было вдруг обнаружить перед ней свою нечистоту. А главное: не знал — для чего же другого и как мне быть с ней вместе вдвоем с глазу на глаз. Говорить о других мы умели друг с другом. Но теперь уже все это было переговорено нами, приближалось что-то иное, что касалось только нас одних, но что, что? И опять не знал ничего, кроме нечистого, и ничего кроме уже осужденного ею — я это помнил — не находил в себе. Она сидела долго на балконе. Смотрела в верхушки молодых березок. Я видел ее. Почти не глядел, но видел, видел все существо ее, видел лицо ее, видел ее черные зачесанные простым пробором волосы, видел весь страстно, с тоской устремленный куда-то в глубь себя облик ее, и вот вдруг так беспокойно и больно стало от того, что видел в ней, что готов был заплакать. Опять то недоступное для меня и недосягаемо чистое, что всегда чувствовал к ней, что напрасно считал в последнее время достигнутым мною, но про что знал, что никогда еще ни с кем, ни в себе одном, ни с ней причаститься ему не мог, это было теперь в ней, и не мог уж более оставаться тут — но робко, чтобы скрыть свою боль, сказал, что хочу идти на отдых, что устал. Она спокойно отпустила меня, с ласковой улыбкой, но сама осталась.
На другой день опять то же: гуляли по парку и по улицам Петровского. Где-то пили молоко. Говорили о другом и сами знали, что это уже не то. Потом опять со старушкой….. Наконец вышли в поле….. Она торопилась. Точно хотела еще сделать какую-то последнюю попытку побыть со мной, приблизить меня. Побежали через луг прямо в лес, в березовую рощу. Но я уж не верил в себя. Шел как мертвый. Там бродила она между березками, ласкала их, прижималась к ним щекой. Потом сидела долго в траве….. и я сидел перед ней, но грустный, страшный, боясь быть близко. Она опять смотрела на небо то строго, то ясно, иногда вдруг заглядывала на меня и таким теперь грустным, грустным и глубоким взором, что казалось мне — свет проходит и все гибнет. Щемило от него сердце и увлажнялись глаза. Хотелось просто встать и подойти к ней, как брат к сестре, приласкать ее, поцеловать ее прямо в лоб. Но не смел, еще помнил свою нечистоту — и сидел неподвижно, как оцепеневший. Приближалась гроза. Забарабанил дождь кругом. Встали, побежали на дачу, ничего не сказав друг другу. Теперь вдыхала аромат цветов — и я говорил о цветах, о грозе, чтобы скрыть, что было. Но что же там было. Что случилось и чего не произошло из того, что должно было быть, гвоздила мысль — и чувствовал что-то утраченным и не совершившимся навеки.
На другой день прощались на вокзале. Она уже ничего не скрывала от меня, была вся тут, как сестра родная, с которой вырос я с детства и которой нечего стыдиться перед братом. Когда заметил на глазах ее слезы, спросила меня прямо: как я — еще стыдясь своей слабости. Я солгал, что я бодр, и говорил о своих намерениях, планах, но она созналась о себе, что ей всегда больно, больно прощаться с людьми, не может иначе.
Потом звонок. Я вздрогнул, все похолодело во мне. Гляжу на нее. Хочется опять безумно припасть к ней — хоть как-нибудь, только на прощанье поцеловать ее в лоб — чем-то успокоить ее….. Но говорю сам не знаю, что говорю, что, кажется мне, мы скоро опять увидимся, что через месяц, наверное, я сам приеду к ней, в Тульскую, что мне в Курской губернии, наверное, нечего будет делать.
Она вздрогнула, встрепенулась вся, точно только этого и ждала.
— Да, да, непременно….. буду ждать вас. Приезжайте, там можно у меня….. и пишите о себе чаще…..
На минуту точно стало легче. Я чувствую, как она глядит на меня просто, с чистой, с материнской, как ко всем, любовью, еще что-то хочет сказать мне — и стыдно и сладостно мне от любви ее. Но безумная мысль вдруг прорезывает сердце — а что, если жесток теперь, что так оставляю ее одну, что, может быть, нужен ей, нужен, чтобы был возле нее….. Но еще звонок, последний. Свисток. Поезд трогается. Она пожимает мне руку. Идет возле, ускоряет шаги, еще не поздно что-то сделать….. Но нет уже….. Рок. Она бежит за поездом, бежит до самого конца платформы и там стоит.
Когда поезд свернул и скрылся, все не мог войти в вагон. Разрыдался. Так не плакал с самого далекого детства. Потом вошел в вагон. Хотел забрать себя в руки, думать о деле, на которое ехал, которому жертвовал всем….. Но нет, уж не мог. Она и она одна передо мною… ее невыразимо грустный взор. Что же там было? Что же там было вчера в Петровском? Вот что главное. Чего не сказал и что не сделал там. И не знаю, и мучаюсь несказанно.
Семь лет тому назад это было, и только теперь я знаю, что это было. Боже мой! Боже мой! как далек я был тогда от Тебя, как далек был от Света очей Твоих. Люди часто не знают, как быть и что делать им вдвоем вместе, когда остаются друг с другом с глазу на глаз одни, — и молчат, и страшно становится им молчать тогда и спешат наполнять время каким-нибудь разговором или заботами, а если это мужчина и женщина, то и враг их любви, уже дух игры плоти с плотью близок к ним, тут же возле них — но это оттого, что не верят они в Бога, не верят в то, что Он Один — жизнь их и наполняет все и всех кругом и трепещет жизнью даже в молчании их. А страшно людям нечистым Его, потому что молчанье укоряет их, обнажает пред ними всю грязь и пустоту их, и вот спешат они укрыться от Него, завернувшись скорее в одежду слов перед другим человеком, пока тот не увидел всю бедность и ничтожество их. Таким ничтожным и был я тогда.
Теперь, кто прочтет это, тот, может быть, поверит, что есть грехи непростимые. Ибо думаю теперь и рассуждаю и ужасаюсь — возможна ли была бы та мука сестры Маши и моя и всех других, которая открылась мне тут, если бы не теперь, а 3,5 года уже до этого послушался я того таинственного Ангела своего, который тогда уже звал меня к Покою у ней, если бы тогда уже предпочел ее той мерзкой жизни, в которую вступал. Вот о чем спрашиваю себя и говорю: нет. Думаю так, что хоть каплю бы радости истинной, вечной видел бы с ней и дал бы ее ей, а того, что произошло в Петровском, не могло бы произойти. Свет есть, Свет зовет нас, Свет всегда, и рано или поздно, держит наготове нам Руки свои и объятья свои и никогда не отгонит нас от себя, но что же мы медлим и не идем к Нему, и сами не идя, держим и других во зле и страдании, в котором живем.