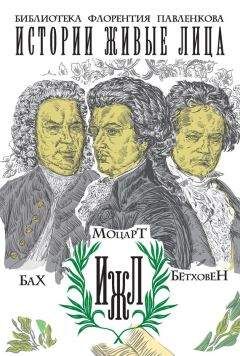Владимир Десятерик - Павленков
От намеченного вначале пробного тома решено было отказаться. Дмитрий Иванович вместе с Верой Ивановной вскоре подготовили состав всех восьми томов. Павленков не стал оспаривать их логику. Он сосредоточился на решении производственных проблем. Оформления для литературно-критических статей не требуется. С цензурой теперь наперед ничего не выяснить. По новому закону о печати от 6 апреля 1865 года, который вступил в силу с 1 сентября, в Москве и Петербурге издания освобождались от предварительной цензуры, если они заключали в себе не меньше определенного числа печатных листов (десять для оригинальных, двадцать для переводных сочинений). Казалось бы, все здорово, свобода печати налицо. Однако по существу такой порядок создавал лишь видимость бесцензурности. Ибо, как это уяснил Флорентий Федорович при тщательнейшем изучении документа, в нем не устанавливались точные границы допустимого и неразрешенного, а, следовательно, для произвола цензоров простор открывался еще больший. Они могли, по-своему толкуя то или иное положение, властвовать над издателями и редакторами журналов еще более свирепо, ибо теперь предоставлялось право задерживать готовое к выходу произведение, наказывать его выпускающего денежным штрафом, а то и возбуждать против него судебное преследование в соответствии с Уложением о наказаниях.
Павленкову на память пришла статья М. А. Антоновича, которую он совсем недавно читал в некрасовском «Современнике». Когда это было? Кажется, летом минувшего года… В августовской книжке «Современника» за 1865 год без особого труда нашел статью с выразительным заглавием: «Надежды и опасения». Перед чтением по лицу пробежала улыбка. Какой точный образ найден! «Представьте себе, читатель, что перед вами недосягаемая пропасть, через которую перекинута какая-то узкая и чрезвычайно неопределенная полоска, предназначенная для вашего перехода; может быть, она и сдержит вас, а может быть, она до такой степени хрупка, что сломается от первого же шага по ней, или же она так узка и гибка, что при малейшем неосторожном шаге вы оборветесь и полетите в пропасть. Согласитесь, что в подобном положении позволительно сильное раздумье. А мы именно в настоящую минуту и находимся в приблизительно подобном положении. И перед нами лежит полоска в виде издания журнала без предварительной цензуры, и мы не можем себе определить и представить, что такое это отсутствие предварительной цензуры. Мы затрудняемся с вопросом, — что писать и как писать, подобно тому, как птица, всю жизнь свою просидевшая в клетке, не знает, куда ей лететь в первую минуту, когда ей приотворят клетку».
Павленков оторвал глаза от журнала и задумался. Действительно, при существовавшем ранее порядке издатель хоть и зависел от произвола цензора, но в то же время был как бы под его щитом. Цензор его тоже был не безразличен к тому, что о нем будут говорить в обществе. Отсюда — приходилось и ему действовать умеренно и снисходительно. Теперь же цензуры вроде бы нет. Однако над головами издателей и редакторов в качестве дамоклова меча витает угроза двух предостережений Главного управления по делам печати, а после третьего издание уже приостанавливается. Меч этот — в руках министра. В обществе грустно шутят: министр опускает этот меч, когда ему заблагорассудится, он даже не обязан мотивировать свой поступок.
Да. А кто же помогает ему? Разве члены совета — не бывшие цензоры? Вот и Антонович пишет об этом: «…Управлять и руководить бесцензурною прессою призваны почти те же деятели, которые прежде занимались цензурою над прессою. Они, конечно, уже составили себе во время прежней своей практики твердое понятие в том, в каких границах должна двигаться пресса, что позволительно и не позволительно для нее, какой тон почтительный и какой грубый. У них есть уже готовые их прежним опытом данные мерки и нормы, которые они по-прежнему будут одинаково прилагать и к цензурным и бесцензурным изданиям».
Риск с писаревскими томами при таких условиях налицо. Конечно, статьи его проходили ранее цензуру, когда печатались в журналах. Однако отдельно опубликованная статья производит одно впечатление. Объединение в книге нескольких статей способно вызвать совсем уже иную реакцию.
Предугадать в данной ситуации развитие событий никто не в состоянии. Поэтому и Дмитрию Ивановичу о сроках издания сказал не вполне определенно. Естественно, при благоприятных условиях можно выпустить и за год. А вдруг? Конечно, в письме в крепость не напишешь о цензуре. Пришлось говорить о «материальных затруднениях», — надеюсь, поймет, о чем на самом деле идет речь.
Павленков переживал звездный час своей жизни. Его гений предприимчивого организатора был нацелен на реализацию того, в чем видел главную движущую силу общественного развития. Писаревская идея единения мысли и действия представлялась Флорентию Павленкову тем маяком, на свет которого должны равняться все, кого искренне заботит грядущее родной земли.
У Н. А. Рубакина, кому посчастливилось часто общаться с Флорентием Федоровичем в последние годы его жизни, в одной из статей приведено весьма меткое суждение относительно того, почему Павленков стал по-настоящему убежденным «писаревцем» и как следует понимать родство этих двух незаурядных натур.
«Что такое был Павленков?» — задавался вопросом Руба-кин и тут же отвечал: «Мыслящий реалист». Это определение, объясняет он, пошло в ход на Руси в шестидесятые годы XIX столетия. И в оборот оно вошло благодаря знаменитому русскому писателю, критику и публицисту Дмитрию Ивановичу Писареву. Оказавшийся под его сильнейшим влиянием Павленков и являлся последовательным, упорным мыслящим реалистом не за страх, а за совесть.
«Что же значит “мыслящий реалист”? — продолжал развивать свою мысль Рубакин. — Писарев подразумевал под этим словом всех тех людей, кто прежде всего стремится возможно полнее узнать, понять и оценить то, что есть, то есть самую что ни на есть действительность, действительную жизнь, реальность. И свою внутреннюю духовную, а также всю окружающую жизнь, — будь это жизнь природы, человека, общества, человечества, Космоса (Вселенной). То, что есть, то и есть. На это и надо опираться во всех своих размышлениях и рассуждениях, исследованиях и работах, деятельности и борьбе. И мысля всегда реально, то есть о том, что есть, а не о том, что кажется, что мечтается, представляется, хочется. Правда, хотеть никому ничего не возбраняется, но ведь чтобы дойти до цели своего хотения и осуществить их на деле, в жизни, надо прежде всего знать и понимать жизнь и уметь в ней действовать. Это и значить — быть “мыслящим реалистом”. Такому, прежде всего, нужны: труд, знание, энергия, критика и отрицание всех старых предрассудков, шаблонных понятий. “Ведь природа (жизнь) — не храм, а мастерская, а человек в ней работник”. (Слова Базарова в романе Тургенева “Отцы и дети”. Писарев был поклонник и истолкователь Базарова и его души.) В основу такого реализма, разумеется, должно лечь изучение природы, — точное, научное, безграничное, глубокое. С течением времени жизнь научила мыслящих реалистов такого типа еще кое-чему и заставила их несколько расширить область своей души. И они стали говорить так: природа, культура, жизнь, наука, искусство, — все это мастерская, в которой человек — работник; и если он работает в них хорошо, разумно и плодотворно, согласно естественному закону сбережения сил, выходит нечто, не только полезное, умное, но и красивое. Вот таким мыслящим реалистом и был Павленков весь свой век, по заветам, по учению Писарева. Это был человек дела, а не слова, работник, а не болтун, исследователь жизни, а не “распустеха”. Это был человек крепкий и сильный духом, упорный в своих стремлениях, смелый в своих начинаниях, непобедимый в своем упорстве».