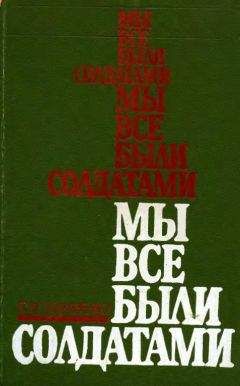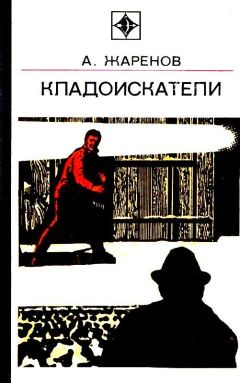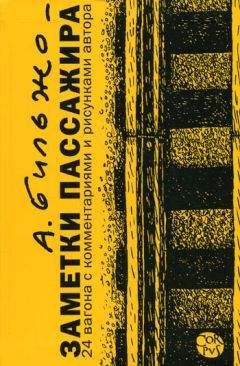Сергей Плеханов - Писемский
Алексей и сам уже отмечал в себе проявления этого «владельческого чувства» – когда носился на дрожках по землям, прилегающим к Раменью. Желтое ржаное поле с синими звездочками васильков, распластавшееся по пологому склону, сосновая роща с высоким, кондовым лесом, откуда брали бревна только на барскую нужду, сизое моховое болотце, кишащее бекасами и дупелями, – все это принадлежало ему. Милый деревенский дом, березовая аллея, черемуха на задворьях – тоже твое, родовое. Когда катишь в коляске, завернувшись в подбитый бархатом плащ-"альмавиву", то и мысли в голову просятся соответствующие: «Я сквайр... проприетер... Все это, что ни идет, ни встречается, все это ниже меня». (Так передаст Писемский внутренний монолог молодого героя «Взбаламученного моря» Александра.) Сам-то он как проприетер (то есть: собственник) был не из важных – в материном Раменье чуть больше полусотни ревизских душ, да десяток семей в деревеньке Вонышево, доставшейся Евдокии Алексеевне по разделу с сестрами в 1834 году, да семь семейств в деревне Васильевское, прикупленной отцом у родственников Шиповых. И все же горделивые мыслишки щекотали сознание. Великовозрастный гимназист определенно входил во вкус обладания землей. И родители уже начинали стеснять его. В зрелые годы, когда Раменье будет уже продано, он напишет: «Припомните, читатель, ваше юношество, первое, раннее юношество! Вы живете с родителями. Вам все как-то неловко курить трубку или папироску в присутствии вашего отца. К вам пришли гости, и вы должны идти к матери, сказать ей: „Maman, ко мне пришло двое товарищей, прикажите нам подать чаю наверх!“ Вам на это, разумеется, ничего не скажут, но все-таки, пожалуй, сделают недовольную мину. Вам ужасно захотелось маленький голубой диван, что стоит в зале, перенести в вашу комнату, и вы совершенно спокойно просите об этом отца, и вдруг на вас за это крикнут... О, как вам при этом горько, обидно и досадно! Но вот родители ваши собрались и уехали, и вам не только что не грустно об них, напротив, вам очень весело! Вы полный господин и самого себя, и всех вещей, и всего дома. Вы с улыбкой совершеннолетнего человека ходите по зале; посматриваете на шкап с книгами, зная, что можете взять любую из них; вы поправляете лампу на среднем столе, вы сдуваете наконец пыль с окна. Вам кажется, что все это уж ваше».
А потом Алексей Писемский наверняка принимался сочинять очередную повесть из великосветского быта. Легкий шум в голове после стакана вина, доносящееся из-за двери гудение угля в камине, посвист ветра за окном, тени, залегшие по углам и вздрагивающие от колебаний пламени... И выплывают из перламутрового тумана лилейные плечи, черные локоны, страстный взгляд. Лобзанья, клятвы. Свист клинка, бешеная дробь копыт, выстрел во мгле, глухой стук упавшего тела. Голубые клубы дыма, запах ливанского ладана, устрашающе низкий бас рокочет: «Ныне отпущаеши владыко по глаголу твоему раба твоего с миром...» Чернила расплылись, строчки текут, барабанят по листу жаркие слезы. Он вскакивает, шагает из угла в угол по кабинету, крутя в руке шелковую кисть халата. Тени корчатся, скачут, свечи вот-вот погаснут. Да, это будет настоящая вещь! Обязательно надо послать в какой-нибудь петербургский журнал. А не возьмут – отдать книгопродавцу, пусть печатает под каким угодно именем. Алексей Чухломин. Нет, не то. Алексей Костромитинов. Нет, просто А.П. А вознаграждение ему ни к чему... Да, и на первом листе – посвящение кузине, тоже одни инициалы. Чтобы понятно было только им двоим. Что она скажет, когда он преподнесет ей неразрезанный томик?..
Страсть к писательству не имела, однако, безраздельной власти над душой Алексея. У словесности оказался могущественный соперник – театр, причем с годами приверженность юного сочинителя сцене все возрастала – по мере того как росла его актерская слава. Первое знакомство с театром состоялось вскоре после поступления Писемского в гимназию. Для него это оказалось своего рода потрясением. Припоминая позже чувства, обуревавшие его по окончании первого в жизни спектакля, романист напишет, что «был как бы в тумане: весь этот театр, со всей обстановкой, и все испытанные там удовольствия показались ему какими-то необыкновенными, не воздушными, не на земле (а как и было на самом деле – под землею) существующими – каким-то пиром гномов, одуряющим, не дающим свободно дышать, но тем не менее очаровательным и обольстительным!»
Это неудивительно – ведь раньше Алексей не знал никаких зрелищ, исключая церковные службы да игры ряженых в праздники. Мир усадебной жизни – это был мир молчащий, погруженный в себя. Музыка считалась забавой редкой и дорогой, она являлась тогда, когда ее ждали, на нее настраивались. В этом мире покоя, молчания зрелище ценилось очень высоко, и рады были любому – потому забавы с дураками, шутами, возня с крепостными театрами составляли важную, праздничную часть жизни. Оттого сбегались смотреть на захожего кукольника с Петрушкой, прилежно глядели, как мужики представляют нехитрую комедию вроде «Лодки» или «Шайки разбойников». Оттого толпились на ярмарках перед «киятрами» и балаганами.
На театре сходились все искусства – живопись, литература, музыка, актерское мастерство. Он был вершиной, средоточием, той магической ретортой, где совершался синтез духовных устремлений поэтов, художников, музыкантов. Вот почему он занимал столь почетное место в русской действительности. Им жили, вокруг него вертелась вся большая и малая словесность. Ведь это факт, что почти каждый из русских прозаиков и поэтов писал для сцены.
Даже плохонькая провинциальная сцена с ее заурядными актерами вдохновляла молодых и немолодых людей на всякие экспансивные безумства – бешеные крики «браво!», охапки цветов на сцену, простаивание на дожде перед подъездом театра в надежде увидеть нисшедшую с высот звезду... Годы спустя, работая над романом «Люди сороковых годов», Писемский живо припомнит тот восторг, который охватил его, когда он и его гимназический приятель Стайновский впервые пришли на представление какой-то заезжей труппы. И этот восторг не уменьшился оттого, что театр помещался в каком-то огромном подвале. Переделанный из кожевенного завода, храм Мельпомены сохранял запах дубильных веществ, сырых кож – сами стены были пропитаны прозаическими ароматами. Чтобы попасть в партер, друзьям пришлось спуститься по ступеням по крайней мере сажени на две. А когда они уселись на деревянные скамьи, Алексей стал озираться по сторонам. Более опытный одноклассник вполголоса объяснял: это ложи, а вот занавес, оркестровая яма. Заиграла музыка. Писемский, никогда до того не слыхавший ничего, кроме скрипки, гитары и плохонького фортепьяно, при звуках довольно большого оркестра почувствовал, что его поднимает какая-то невидимая волна; хотелось в одно и то же время плясать и плакать. Занавес поднялся. О, как восхитительна была открывшаяся взору таинственная глубь рощи, позади которой колыхался от сквозняка занавес с бог знает куда уходящею далью, и еще что-то серое шевелилось на авансцене – это, как объяснил всеведущий Стайновский, был Днепр. А когда пьеса некоего Краснопольского «Днепровская русалка» окончилась и юным театралам удалось пробраться за кулисы, они увидели нехитрую механику костромской сцены – кусты и деревья из картона подпирались сзади палками, волнующийся Днепр представлял из себя ряд качающихся фанерок, а дома и облака висели на веревках, уходящих куда-то в темноту...