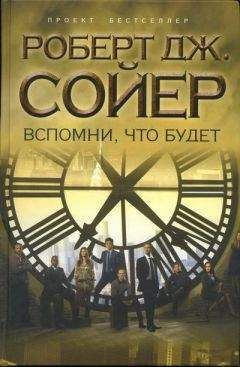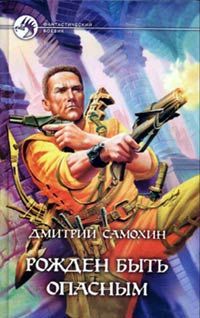Семен Резник - Мечников
Не зная, куда девать глаза от стыда, явился он в Панасовку. Но родные вмиг сообразили, что творится у него на душе, — встретили радостно; не попрекнули зря потраченными деньгами, не укололи неосторожной шуткой… Понемногу он отошел, успокоился… Но что-то надо было делать… И Илья поступил в Харьковский университет, хотя продолжал считать, что учиться ему там нечему…
И слава богу, что поступил! Ведь если поразмыслить, то будущему естествоиспытателю вовсе не вредно прослушать полный университетский курс, пусть без должного лабораторного практикума, пусть без учета новейших открытий, однако же курс систематический.
Да и так ли отстали харьковские профессора!.. Был ведь все-таки среди них Щелков, о котором Мечников вспомнит впоследствии с благодарностью, что, впрочем, не помешает ему с некоторым пренебрежением отозваться о научных заслугах своего учителя. «Хотя Щелков не оставил по себе заметного имени в науке, но деятельность его как первого научного преподавателя физиологии в провинциальном университете не осталась бесследной, так как из его лаборатории вышло несколько серьезных ученых, между которыми особенно выдался В. Я. Данилевский» — таковы слова Мечникова. А особо выдавшийся профессор В. Я. Данилевский, — как физиолог, он с большим основанием мог судить о трудах своего учителя, — отмечает работы Щелкова по дыханию мускулов, «справедливо считающиеся классическими и доставившими ему почетную известность в науке».
А тот же Масловский. На поклон к нему Илья теперь не пойдет. И зря! В лаборатории Масловского с успехом занимались студенты и выполняли самостоятельные исследования. Среди них Митрофан Галин, оставленный Масловским при своей кафедре и ставший видным зоологом. Позднее, когда Мечников из-за границы пришлет свою работу на степень кандидата, А. Ф. Масловский станет ходатайствовать об освобождении его от защиты (смысл защиты сводился к тому, чтобы удостовериться, что работа выполнена самим соискателем, а не другим лицом) и тем самым избавит от необходимости приезжать в Харьков; факт, хотя и ничего не говорящий о Масловском-ученом, но много говорящий о Масловском-человеке, — это ведь тоже немаловажно.
А профессор зоологии А. В. Чернай. При нем из стен Харьковского университета в короткое время вышла целая плеяда талантливых зоологов: будущий профессор П. Т. Степанов, упоминавшийся нами М. С. Ганин, Мечников, наконец, идущий по его следам В. В. Заленский. Столь богатый урожай зоологов — факт по тем временам выдающийся; на него обратил внимание сам академик Бэр. Неужели мы поверим Мечникову, что профессор зоологии не имел к этому никакого касательства? Правда, когда Бэр обратился с соответствующим вопросом к Чернаю, тот остроумно ответил, что тут имеет место «самопроизвольное зарождение». Мечников подхватывает этот ответ: «В самом деле, не он возбудил у своих слушателей любовь к науке».
Дальше Илья Ильич красочно описывает, как профессор «аккуратно являлся на лекции с учебником Каруса и Герштеккера в русском переводе, читал из него выдержки, приводя от себя лишь несколько общих замечаний на тему об „удивительном разнообразии“ животного мира. Зоологической лаборатории в то время не существовало, и все занятия ограничивались беглым осмотром коллекций в витринах и закупоренных склянках».
Ну хорошо, лаборатории не было. Но неужели осмотр коллекций был только беглым? И неужели А. В. Чернай, автор, между прочим, двухтомной «Фауны Харьковской губернии», не мог добавить к стандартному учебнику ничего, кроме «удивительного разнообразия»? Вот ведь П. Т. Степанов, прослушавший у Черная полный курс, находил его весьма содержательным. А много ли лекций профессора зоологии удостоил посещением столь строго о нем судивший Мечников?
Какие там лекции! Ему хочется во что бы то ни стало сейчас же, немедленно, заявить о себе ученому миру. Он наскоро доводит до конца начатое еще в гимназическую пору исследование над инфузориями и посылает статью в научный журнал. Однако что-то тревожит его, беспокоит… Он повторяет опыты и вдруг, к ужасу своему, убеждается, что допустил ошибку. В редакцию летит просьба ни в коем случае статью не публиковать…[4]
Он набрасывается на книги, привезенные из Лейпцига, в первую очередь на «Происхождение видов» Дарвина. В России эта величайшая книга века еще не вышла (первый перевод, сделанный профессором С. А. Рачинским, появится лишь в 1864 году), и юный Мечников решает познакомить с ней публику…
По силам ли ему реферат столь серьезного труда? Но это наш вопрос. У самого Ильи нет и тени сомнений. Больше того, он не ограничивается пересказом прочитанной книги, а считает, видите ли, «небесполезным изложить свой взгляд на теорию Дарвина», Мысль о том, что его взгляд, взгляд семнадцатилетнего юнца, немного значит в глазах почтенной публики, ему в голову не приходит! И хотя автор с наивной откровенностью сообщает, что дать «подробную критику» он не может, так как для этого «должен бы был перечитать целую кучу сочинений, написанных по поводу теории Дарвина, из которых мне до сих пор еще ни одно не известно» (курсив здесь и далее мой. — С. Р.), он тем не менее делает «общее замечание о составе сочинения, прежде всего резко бросающееся в глаза».
Замечание это следующее:
«Я хочу сказать о бездоказательстве очень многих весьма важных положений Дарвина, для пояснения которых он приводит иногда некоторые примеры; фактов у него почти нет или же он их сообщает в таких случаях, когда вовсе не требуется никаких доказательств. Эта бедность в фактах, составляющая главный недостаток изложения, служит источником и других ошибок. Кроме того, этот же недостаток <…> заставляет его во многих случаях говорить ужасные несообразности, противоречить самому себе».
Перед величественным храмом науки он не испытывал священного трепета. Тихо войти, аккуратно притворить дверь и незаметно стать у стены? Нет! Ему надо было ворваться, опрокинуть дюжину стульев и перебить побольше посуды.
Существа теории Дарвина он не понял. И напрасно некоторые комментаторы, отмечая «юношескую смелость», пытаются найти в статье Мечникова «блестящую критику мальтузианского „промаха“ Дарвина», которая якобы «перекликается с критикой мальтузианства в сочинении Дарвина, данной Марксом и Энгельсом».
Основной недостаток книги Дарвина Маркс и Энгельс видели в его некритическом отношении к теории Мальтуса, объявившего борьбу за существование, борьбу всех против всех основным законом человеческого общества. В приложимости теории борьбы за существование к миру живой природы они нисколько не сомневались. Энгельс подчеркивал, что «не требуется мальтусовских очков, чтобы увидеть в природе борьбу за существование, увидеть противоречие между бесчисленным множеством зародышей, которые расточительно производит природа, и незначительным количеством тех из них, которые вообще могут достичь зрелости, — противоречие, которое действительно разрешается большей частью в борьбе за существование, подчас крайне жестокой».[5]