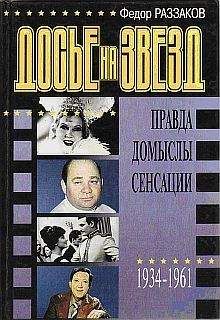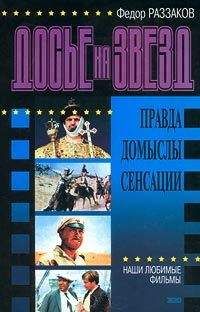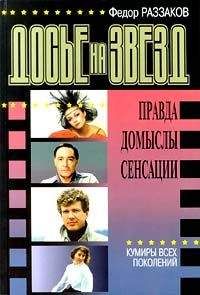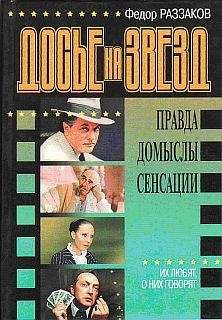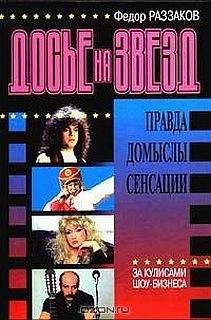Ирина Сиротинская - Мой друг Варлам Шаламов
— Час, который час? Але! Час который? Але!
— Пять, пять часов! Премию, премию дали! Премию!
— Премия — деньги! Але! Але! Премия — деньги!
— Во Франции!
Он понимает и теряет к премии интерес.
Я приношу ему том «Колымских рассказов», изданный в Лондоне, — мне дал его для В.Т. Гена Айги. Он медленно ощупывает книгу: «Я понимаю, что издали Там, — говорит он равнодушно, — но ведь должны быть деньги».
Из «золотого дождя» от изданий за рубежом на него не упало и капли, которая облегчила бы его старость. Вот публикация в «Юности» его волнует. Я собрала кое-что из его старых стихов и отдала Натану Злотникову.
— Номер? Номер какой?
Я еще не знаю точно, но кричу наудачу — седьмой. Публикация вышла в восьмом номере. Это была его последняя радость. Он беспокоился, чтобы заказали заранее авторские экземпляры. Это — последний журнал, который он гордо дарил посетителям. А я не взяла, чтоб у него остался еще лишний экземпляр для подарка.
Жизнь его подошла к концу. Страшная жизнь, раздробившая прекрасного, талантливого, страстного человека на кусочки…
Он видел то, чего не видели мы, чего не должны видеть люди, чего не должно быть. И это отравило его навсегда. Тень лагерей настигла его. И кусочки личности, сцементированные волей и мужеством, распались.
И вот — лето 1981 года, последнее лето его жизни, принесшее ему премию Свободы. Он диктует стихотворение, последнее стихотворение обо мне:
Яблоком, как библейский змей,
Я маню мою Еву из рая.
Лишь в судьбе моей — место ей,
Я навек ее выбираю.
Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну,
В наших днях, словно в срезе пня,
Закодирована не случайно.
Я всегда приносила ему любимое — яблоки, вафли, еще любил он пастилу, зефир. Однажды он спросил меня: «А где пастила?» Я говорю: «Нет ее в магазинах». — «Ну, сходи сейчас, купи». — «Ее нет, не продают». Он понурился. И вижу, думает, что мне не хочется идти. Но яблоки, к счастью, были всегда. Яблоки он бережно ощупывал бережно, серьезно укладывал в тумбочку. Они я думаю, и дали толчок стихам. Всегда какая-то мелочь, деталь включала этот поток стихотворения. И последние стихи из новых (он часто диктовал и варианты старых):
Я на бреющем полете
Землю облетаю,
Всей тщеты земной заботы
Я теперь не знаю.
Зиму он не любил никогда. Все аресты его были зимой — 19 февраля 1929 года и в ночь с 11 на 12 января 1937 года. Зимой он часто простужался, болел.
Последний раз я увидела его, когда пришла поздравить с Новым годом. Он, как всегда, узнал меня по руке и, усевшись, умостившись на стуле, продиктовал воспоминания о Б. Полевом. Бедная «наседка» металась не понимая ни того, что он говорил, ни того, что я писала (стенографировала). Потом продиктовал последний вариант стихотворения «Голуби». Это было все.
15 января 1982 года его непрочный бедный рай разрушили — перевели в другой, психо-неврологический дом инвалидов. Определенную роль в этом переводе сыграл и тот шум, который подняла вокруг него со второй половины 1981 года группа его доброжелателей. Были среди них, конечно, и люди действительно добрые, были и хлопотавшие из корысти, из страсти к сенсации. Ведь именно из них у Варлама Тихоновича обнаружились две посмертные «жены», с толпой свидетелей осаждавшие официальные инстанции.
Бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу. И я не умела это прекратить. Только могла отстраниться. А дирекции пансионата это шоу было ни к чему. Время тогда было другое, а «доброжелатели» не щадили Варлама Тихоновича, организуя эту сенсацию с фотовспышками, записями голоса, письмами на Запад, обзваниванием левых деятелей.
17 января 1982 года он умер. Умер на руках чужих людей, и никто не понял его последних слов.
Были похороны — дело суетное. Чужие возбужденные лица — попавших в сенсацию людей. Много спектакля. Я ему все говорила про себя: «Не бойся, я с тобой». У меня было ясное ощущение его присутствия. Покой был на его мертвом лице. Я положила в кармашек его пиджака наш талисман, который он мне подарил давно («чтоб всегда был с тобой») — маленького моржика, вырезанного из моржового клыка.
Прощай, мой друг.
Переписка
К сожалению не все письма В.Т. я сохранила. Когда я уезжала, он писал мне каждый день, считал, что только так и можно переписываться, чтобы тонкие сердечные, душевные связи не рвались и не охладевали за месяц-полтора разлуки.
Встречаясь со мной после такой разлуки, он тревожно вглядывался в мое лицо и потом облегченно говорил: «Ну, слава богу, все, как прежде».
Увы, я всех писем не могла сохранить — негде было. В доме — ни одного ящика, шкафа, куда шаловливые ручонки детишек не влезали бы, а еще — хомячки, морские свинки, птицы, кошки… Дети несли в дом больных кошек, голубей, как-то принесли ястреба, которого били вороны… Негде мне было хранить заветные письма. Я твердой рукой архивиста оставила интересные литературные и истребила более личные, сохранив все-таки два-три (его и свои), которые было очень жаль уничтожать. Писал он хорошо, и мне сообщал, что мои письма «на пять», и это мне не понравилось. Мои письма были непосредственны, и никаких литературных целей не преследовали. Они тоже не сохранились.
Только очень дорогие мне — по живой моей любви к Крыму, — я оставила себе.
В 1976 году, уходя от него, я попросила отдать мне наши письма — как-то больно было, что они могут попасть в чужие руки. Оказалась я предусмотрительной: действительно поздние письма мои попали в руки Л.В. Зайвой,[1] о чем она мне и сказала, но я не стала вступать в переговоры, уж очень мне казалось недостойным всякое общение с ней.
Наша переписка с В.Т. велась в основном в летнее время, когда я уезжала с семьей в отпуск, да еще когда у меня была возможность получать письма, т. е. мы были в «недиком месте» и пасли детей по очереди с мужем — чтобы они провели у моря два месяца.
Потом мы переключились на байдарочные походы — Валдай, Волга, и уже никаких писем я получить не могла, иногда лишь бросала открыточку, когда мы проплывали село.
Мы познакомились 2 марта 1966 года, а летом я уехала, написала ему три письма о Крыме, а когда вернулась и пришла к нему, он распахнул дверь рывком, и я очутилась неожиданно в его страстных объятиях, даже растерялась несколько.