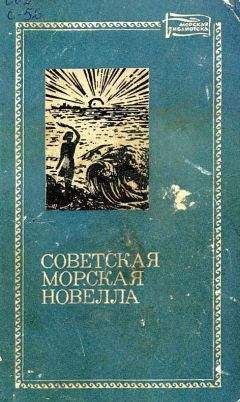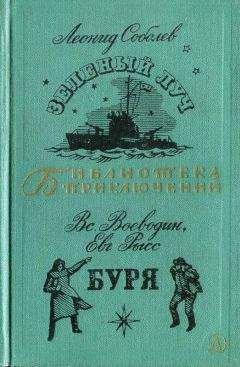Семен Соболев - Исповедь
Вот и к деду пришли. Описали все и предупредили строго, чтобы не была зарезана ни одна скотина, не продана ни одна сельскохозяйственная машина и даже домашняя утварь и одежда... Дед шел под раскулачивание. Все, что он нажил, работая на пашне от темна до темна, а зимой в бане, валяя валенки, все у него отняла власть. Агитация вступления в коммуну проводилась доходчиво, по принципу: кто не с нами, тот наш враг. Кто не хотел вступать в коммуну, того раскулачивали и высылали куда-то в горы. Может быть, поэтому однажды отец пришел домой с сельской сходки, порубил иконы, растопил ими самовар и объявил матери, что он записался в коммуну.
Мать поплакала над порубленными иконами и совсем не поверила, что, развенчавши бога, можно построить рай на земле. Мама моя была набожная и никогда не садилась за стол, не помолившись, утро ее начиналось с молитвы, а перед сном, уже раздевшись и погасив лампу, она в одной ночной рубашке подолгу стояла перед иконами, шепотом читала молитвы, крестилась и кланялась поясным поклоном. Только сотворивши этот ежевечерний молитвенный ритуал, тяжело вздохнув, она ложилась в постель. И вот ее икон больше нету. Если нету бога, то кто защитит ее и ее детей в этом жестоком мире? Кто защитит ее дом и его неразумного хозяина?
Через несколько дней отец отвел лошадей, угнал корову, поросенка, переловил кур и отвез в коммуну на общий двор. Нас же из нашей избушки перевели в большой дом, хозяина которого раскулачили и сослали. В этом чужом доме чувствовали мы себя неуютно, все в нем было чужое, слишком много прохладного воздуха и ничем не заставленного пространства. А большие, без штор, окна нагоняли страх: будто нас раздели и выставили на всеобщее обозрение.
Первой убежала в старую избушку кошка. Пригорюнившись, не находя себе места и применения, сидела, понурившись мама. Жить в чужом доме на селе, хозяина которого выселили ни за что ни про что - это же какую надо было иметь совесть? Поэтому мы и сами чувствовали себя будто в ссылке.
А через небольшое время пришел отец грустный. Любимого его рысака, которого он привез года за три до коллективизации чуть ли не из Туркмении, его гордость, на котором он не работал, а лишь изредка, будучи слегка под градусом, запрягши воронка в легкий ходок, выезжал лихо прокатиться по селу, его рысака уже заездили в коммуне и согнали с него весь прежний лоск. Нет, отец мой не был пьяницей. Пил только по большим праздникам, когда гуляла по неделе вся деревня, а в более позднее время, уже, будучи люмпеном, только с аванса и с получки со своими товарищами по работе, не более пол - литра на артель. Однако его считали пьющим и когда укоряли тем, что он каждому гостю рад и тут же бежит в сельскую лавку за бутылкой, он отвечал:
- Э-э-э, ясное море, - это была его любимая присказка, - не имей сто рублей, а имей сто друзей!
Когда же советовали не жить одним днем, а думать о будущем, он резонно парировал:
- Будет день и будет пища...
Но дело, видимо, было не только в его рысаке. Очевидно организационные трудности в коммуне, разброд и вольница вчерашних единоличников, бывших еще недавно хозяевами самим себе, породили столько беспорядков, что их не вынесла вольная душа моего отца. А свидетельством тому был скорый распад этой коммуны. Но это было уже позже, этого распада отец мой не дождался. А примерно через месяц после вступления в коммуну, отец оставил все свою живность в коммуне и попросил отпустить его в город и помочь только транспортом, чтобы довезти до него свое семейство,
Нам дали две подводы, погрузили мы в них бедный скарб наш, состоявший из кое-какой одежонки, постели и небольшого запаса продуктов, и тронулись в путь.
Справа, полого опускаясь к озеру, расстилался луг. Слева уходили назад крестьянские избы. У некоторых из них стояли старики или старушки и, сделав над глазами козырьком ладошки, всматривались, пытаясь рассмотреть, кого же это и куда опять повезли. Так увозили ссыльных. Так уезжали мы в добровольную ссылку, оставив все, что поддерживало нашу прежнюю жизнь, что давало кров и пропитание.
Вот проплыл назад сельсовет с красным флагом над крыльцом, вот тихо отошла церковка с зеленой колоколенкой и железным кованым забором. Потом еще ряд крестьянских домишек, вот изба Митьки Ситникова, потом пустырь и мазанка сельского гончара, потом опять пустырь. И вот дедов дом с палисадником перед окнами и с тесовыми воротами, а за ним - наша избушка с маленькими добрыми глазками окошек, забором в две жерди и настежь раскрытыми воротами. Проезжая в конце села мимо своей избушки, мать тихо безмолвно всплакнула, растирая по щекам слезы. Здесь прошла нелегкая, но по-своему счастливая пора ее замужней жизни, первое ощущение своего гнезда, первые одоления бедности и ее дети пятерых детей родила она здесь в этой приземистой с почерневшими от времени углами сруба избушке. Отец сидел, насупившись, а мы, детвора, беззаботно радовались мягкому потряхиванию телеги и движению вперед в неизведанное.
Скоро кончились огороды, потом распаханные поля и началась нетронутая ковыльная степь. В небе заливались жаворонки, кружились широкими кругами коршуны без единого взмаха крыльями, изредка вскрикивали возчики, взявшиеся отвезти нас. Деревня уже давно скрылась за горизонтом, а вместе с нею и наше беззаботное детство. Навсегда, безвозвратно.
Много лет спустя, уже после войны, меня вдруг потянуло на родину, туда, где я впервые увидел небо, степь, наш бор, где я впервые ощутил босыми ногами нагретую солнцем землю и прохладу травки. Попутными машинами я приехал к тете Нюре, сестре отца, которая после высылки вернулась в родное село и работала в колхозе. Муж ее давно умер, она снова вышла замуж, и жили они вдвоем - дети поразъехались кто куда. Тетя Нюра постарела, но все так же была говорливая и во всю мочь ругала колхозных руководителей за нерадивость к делу, за корыстолюбие, а особо за пьянство.
Переночевавши, я утром побежал на другой конец села, где мы когда-то жили. Все там переменилось. Не было там ни нашей избушки, ни дома деда, ни луга перед ними - все было вытоптано стадом. Не было за лугом ковыльной степи, по которой когда-то подкочевывали к самой нашей деревне казахи-кочевники и ставили свои юрты прямо напротив нашей избы - все было распахано.
На другой день я ушел, чем совсем озадачил тетю Нюру. На душе было пусто, вокруг пусто, той прежней родины не было, она была утрачена, утеряна, украдена кем-то и надо было где-то искать ее уже в других, более широких границах. Тогда я прошагал сорок километров до города Рубцовска, прямо, без дороги, по степи, ориентируясь на элеваторы, едва мерцавшие в мареве, ни на минуту не присев, чтобы отдохнуть.