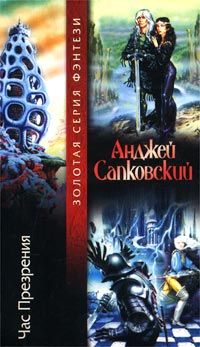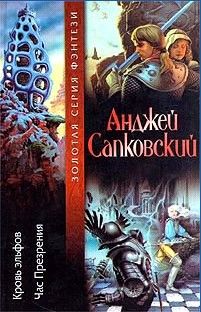Агате Несауле - Женщина в янтаре
— Если услышу хоть малейший шорох, плюну прямо сюда, — она показывает на мой рот и угрожающе кашляет.
— И знайте, лучше меня не плюется никто.
Испуганные, но в восторге от ее злых замыслов, мы хихикаем.
— У меня во рту уже полно слюны, девчонки. Раз надо, так надо, — обычно приговаривает она. — Я с тобой говорю, Беата, шкодница ты этакая. Вечно выдумываешь всякие пакости и младшую подбиваешь.
Заметив, что мы с надеждой поглядываем на входную дверь, она снова начинает:
— И не пытайтесь красться на цыпочках, когда я уйду. Если выйдете на двор, умрете. Очень даже просто. Фулиганы немецкие, фашисты эти проклятые, тут как тут, ловят латышских детей, и русские, эти коммунисты-безбожники, тут же неподалеку. Да мало еще что. Не обязана я вам этого рассказывать.
И тут же принимается перечислять. Лешие, черти, ведьмы, колдуны, вампиры, оборотни, призраки и вепри. А еще Чума, Черный мор, скелет, а одет как джентльмен, в черной мантии, весь в драгоценных каменьях, кости как ни бросит, все выигрывает.
— Радовались бы, что в своих постельках спите, в тепле, в безопасности.
Неделями мимо дома идут и идут беженцы, но я и не думаю, что мы уедем надолго, тем более — что навсегда. Минувшим летом, мне тогда было пять лет, я путешествовала вместе с родителями и помнила, как радовалась, уезжая, и как была счастлива, когда вернулась домой, к деревьям и животным, к своим игрушкам, в свою кровать. И наше возвращение, казалось мне, будет таким же, мы вернемся, прежде чем зацветут нарциссы на длинной клумбе под окном спальни, прежде чем веранда наполнится ароматом жасмина и сирени. Так, вероятно, казалось и моим родителям, потому что папа тщательно запирает дверь и кладет ключ в портфель. Второй ключ вручает нам — чтобы отнесли соседям, а третий закапывает вместе с серебром и самоваром.
По дороге на побережье мы ночуем у родственников и друзей родителей, и хотя взрослые возмущены, что немцы оккупировали Латвию и не разрешают уезжать в Америку, волнуются, найдется ли пароход, который довезет нас до Германии, их заботы кажутся нам далекими. Мы встретили двоюродных братьев и сестер, которых давно не видели, быстро подружились с другими детьми, которые тоже направлялись на побережье. Вовремя лечь спать, почистить зубы перед сном, не вмешиваться в разговоры взрослых — эти правила соблюдаются уже не так неукоснительно, как дома. И только когда взрослые собираются вокруг тихо бормочущего радиоприемника и слушают новости с фронта, которые передает запрещенная немцами радиостанция БиБиСи, мы должны вести себя тише воды ниже травы.
Я помню лишь одно зловещее событие на нашем пути к побережью. Караван из семи повозок должен был остановиться в доме сестры одного из маминых друзей по музыкальным вечерам. Но когда мы подъехали, хутор оказался покинутым. Сломанные, наполовину сорванные с петель двери с заунывным стуком бились о косяк. Шкафы разворочены, одежда раскидана по полу, посуда перебита, мухи жужжат над изорванной одеждой, она пахнет кровью, сказала мама.
Взрослые спорили о том, что делать дальше. Мама пыталась дозвониться в город, в полицию, но телефон молчал, трубка безжизненно висела на черном проводе. Хозяйка уехала или ее увезли силой? Арестовали ее фашисты или увели с собой русские партизаны, бородатые люди с бегающими глазами, которые жили в лесах? Неделю назад двое партизан зашли и в наш дом, угрожали нам, выспрашивали, а бабушка, мамина мама, не растерялась, сказала, что все мужчины работают в поле за холмом и придут домой в полдень, хотя все они уехали в Ригу в надежде заказать билеты на пароход, последний, отплывающий из Латвии.
Картина брошенного дома потрясла меня — я впервые увидела, как выглядит настоящий разор и беспорядок. Больше всего меня пугают выломанные двери. Я просто ощутила, какая опасность нам угрожала, останься мы здесь, монотонный стук дверей невыносим — опять, и опять, и опять, и я испытываю облегчение, когда наш караван из полудюжины семей отправляется дальше.
Солнечные лучи ласкают малиново-красные и белые хризантемы в покинутом саду. Хризантемы такого же цвета, как флаг Латвии, — прообразом которого стал залитый кровью белый плащ, под ним соратники умирающего вождя продолжали сражаться с немецкими завоевателями до победы. Но в то время я об этом еще не знаю.
Цветы эти я вижу так ясно до сих пор потому, что это был последний запомнившийся мне солнечный день, и долго еще после войны он оставался единственным, хотя, конечно, потом тоже светило солнце. В моих воспоминаниях Латвия всегда озарена солнцем. Когда я представляю себе пасторский дом, его окрестности, всегда светит солнце, будь то лето или поздняя весна, даже если я стою в тени мрачных дубов. Древние латыши поклонялись солнцу и деревьям, а немецкие завоеватели хотели заставить их от этого отказаться и обратиться к Христу и кресту. Латыши воплотили солнце в стилизованных узорах и украшениях, воспевали его в народных песнях и мифах. А потом солнце прославляли и латышские поэты. И мы с сестрой без конца пели песни о солнце, хотя наша фамилия «Несауле», что значит «Без-солнца».
Последний дом, в котором мы останавливаемся, — дом дяди Яши, он хирург, а не лютеранский пастор, как остальные мужчины в нашей семье. Так как нам надо было попасть на пароход дотемна, мы трогаемся в путь сразу после обеда; день серый, холодный. Мама плачет, потому что ее подруга Эльвира не вернулась и не сможет уехать с нами, а больше ждать мы не можем, зато все остальные спокойны и со всем смирились. Тетя Зента заходит в дом, чтобы убедиться, что ничего не забыто, выходит и с веранды машет рукой дяде.
— Иди закрой двери!
Дядя Яша словно не слышит, сидит на телеге, ждет ее.
— Яша, запри двери, нельзя же дом оставить незапертым, — повторяет тетя Зента.
— Зачем? — пожимает он плечами.
Когда она дрожащим голосом зовет мужа еще раз, он соскакивает с телеги, подходит, обнимает ее, гладит по голове.
— Дорогая, нет смысла запирать, — говорит он. — Другие в нем остановятся, когда мы уедем. Беженцы, цыгане, партизаны, армия. Если дверь не запирать, ее, по крайней мере, не выломают.
— А наши вещи, — всхлипывает она. — Книги и картины. Посуда и одежда. Ильзины куклы. Я хочу, чтобы все было на месте, когда мы вернемся.
Она уже плачет в голос.
— Мы не вернемся, нам никогда больше не позволят здесь жить.
Он продолжает успокаивать жену, не делая попытки запереть двери. В конце концов вытаскивает из замочной скважины большой черный ключ и кладет его на оконный карниз.
— Оставим тем, кто придет после нас, — произносит он мягко. — Нет смысла запирать. Пусть берут ключ, если надо. А когда русские вернутся, пусть дерутся за него, убивают друг друга.