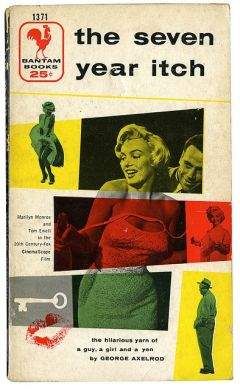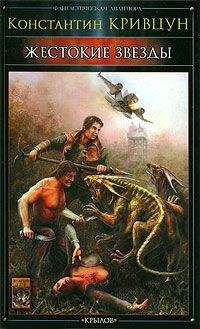Вехова Базильевна - Бумажные маки: Повесть о детстве
8
Нельзя сказать, что до этого я не знала стихов. И стихи и песни в больнице учили во множестве. Мы дружно распевали и «Тень-тень-потетень, выше города плетень», и «Снова замерло все до рассвета», и «Кипит наш разум возмущенный».
Особенно трогательными нам казались стихи и песни о несчастных детях. Одно из таких стихотворений я читала «с выражением» на каком-то утреннике:
Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька,
На детском личике заметна
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней — молчит в ответ,
Как будто ей не семь, не восемь,
А много-много горьких лет...
И вдруг, как будто ветер свежий
Пройдет по детскому лицу,
И, оживленная надеждой,
Она бросается к бойцу.
И, глядя ясными глазами,
Защиты ищет у него:
— Они ломали руки маме!
— Убей их всех, до одного!
Хотелось тут же схватить винтовку — и в бой! Я представляла себе очень ясно ужасную картину, как дюжий немец-солдат ломает руки слабой маленькой женщине, как кричит и плачет испуганный ребенок... И от ненависти скрипела зубами.
Мы все яростно ненавидели немцев.
Наша ненависть питалась множеством стихов, песен, рассказов о мучениях детей и взрослых героев. Наслушавшись их, мы кипели праведным гневом, и все, как один, хотели быть героями. В нас рождалось стремление к мученичеству. Мы приучались к мысли, что быть героем — лучше всего на свете. И, конечно, считали себя способными совершить великий подвиг.
О, если бы мне сказали тогда, что во мне течет немецкая кровь! Что родной отец моей мамы, мой дедушка — немец... Что я стала бы делать? Наверное, никто не стал бы со мной дружить. Меня бы дразнили и били. Наверное, я бы изобрела деление немцев на хороших и плохих, причислила бы себя к хорошим. Но все же во мне поубавилось бы ненависти, я бы поняла, что не все немцы — враги. Наверное, я чувствовала бы себя виноватой и скрывала бы свою тайну, как потом, в школе, скрывала, что отец мой — еврей, хотя моя фамилия Машбиц громко заявляла об этом.
Как коварно желание быть не хуже других! А голос совести такой тихий, еле слышный и неразборчивый... Как идти против всех, защищать то, что все ненавидят?
После бабушка Женя рассказывала мне о еврейских погромах, которые были в Саратове в ее детстве. Ей было тогда 4-5 лет. Но все врезалось в память.
Ее отец, мой прадед, жил в центре Саратова на втором этаже просторного дома. Первый этаж занимал магазин, которым он владел. Семья была старообрядческая.
В день погрома во всех окнах бабушкина мама с няней выставляли старинные иконы, опускали шторы, и в широкой темной передней, и на лестнице, ведущей в магазин, тесно сидели, прижавшись друг к другу, на узлах с одеждой и постелями черноглазые дети, женщины и живописные старики в ермолках и с пейсами. Их приводила няня на рассвете, еще затемно, вела проулками через двор и черный ход. Они сидели молча, перепуганные дети не плакали, старики не кашляли, женщины не шептались. Казалось, они боятся дышать, чтобы их не услышали. Бабушка Женя с братьями смотрели в щелку, отодвинув край тяжелой шторы, вниз, на улицу.
Там текла возбужденная толпа, в воздух грязными брызгами взлетали пьяные выкрики, мелькали палки, железные прутья... Там был жаркий ветер, швыряющий пыль в стекла, тяжкий топот грубых сапог, темные пятна пота на ситцевых спинах...
Бабушка Женя рассказывала, как от страха она начала вся дрожать и убежала от окна, спряталась под стол, в темноту, низко опустив угол бархатной скатерти.
А няня приговаривала у окна:
— Вот радость для нечистого! Вот его пожива! Черти-то в аду от радости скачут!
Бабушкин брат, тринадцатилетний Гриша, ученик гимназии, отличник, козыряя перед няней своим, только что обретенным атеизмом, ворчал:
— Откуда ты, няня, знаешь, чему рады черти? Никаких чертей нет! Это все выдумки!
— Если бы да не было... А кто же этих дуроломов подзуживает? — горевала няня. — Кто толкает на всякое злое дело?.. А ветер-то, ветер какой горячий, я давеча шла, так лицо обжигает, словно не из степи, из ада ветер... Черти крови жаждут...
Маленькая дрожащая девочка под столом, моя будущая бабушка Женя, верила няне, а не Грише, хотя ей очень хотелось, чтобы никаких чертей на самом деле не было. Но кто же насылает безумие на всех этих больших, сильных мужиков, кричащих в пыли внизу?
А потом — пролетит полжизни, и дочка бабушки Жени, моя будущая мама, приведет к ней знакомиться своего избранника, черноглазого, живого, веселого еврея.
А он представил ее своей семье.
В квартире в Печатниковом переулке был накрыт стол на сорок персон. Родители, шесть сестер с мужьями и детьми, три брата с семьями, приезжие родственники разговаривали, жестикулировали, смеялись, ели и поглядывали на светленькую невестку с фарфоровым румянцем на нежных щеках.
Бывшие маленькие девочки, присутствовавшие на этой встрече, мои двоюродные сестры, рассказывали мне, что моя мама показалась им красавицей, потому что была светленькая, хрупкая, такая... нездешняя...
За столом сидела большая семья, много молодых, здоровых, энергичных людей — врачи, инженеры, биологи, литераторы...
В 1933 году старший брат моего отца отдаст свою комнату в Сверчковом переулке молодоженам — моим родителям... А в 40-х годах бабушка Женя, рискуя свободой, будет подкармливать зека — того самого брата, бывшего литературоведа, бывшего «красного профессора», а в лагере — сапожника...
Сестры отца спасут меня от гибели в 1942 году...
За столом, накрытым на сорок персон, завязывались узлы судеб...
А что касается немцев...
У бабушки Жени на столе лежали две тяжелые линзы с наклеенными на обороте картинками — память о ее жизни в Германии. На одной картинке — сельский, на другой — городской пейзаж.
В глубине толстого стекла такими объемными, живыми кажутся деревья, дома. Переменив наклон линзы, я могла устроить рассвет над городом или полем. Из-за гор, кудрявых от лесов, выкатывалось солнце. Склоны гор теплели, деревья радовались... Блики заката я могла зажечь в окнах опрятных домиков с башенками, с красными крутыми крышами. Я разглядывала в линзах чужую прекрасную страну и мечтала сделаться крошечной, как мошка, и улететь туда, к чистым белым домикам. В них живут, наверное, добрые люди, как Карл Иванович из «Детства» Толстого...
А бабушкины книги из Германии... Готический шрифт, тонкая бумага, гравюры, которые так интересно разглядывать, — чего только там нет: и замки, и сады, и дамы в длинных платьях...
В толстом конверте лежали фотографии, которые я подолгу разглядывала. Вот моя семилетняя мама, длинноногая, высокая, стоит в группе разношерстной детворы от четырех до десяти лет. Все худые, одеты бедно. Это дворовые ребятишки, с которыми она дружила в Берлине. Она очень быстро выучилась говорить по-немецки и говорила правильно. Своих дворовых друзей она увлекла игрой в театр, и эта группа на выцветшей нерезкой фотографии на самом деле — труппа. Я не знаю, показывали ли они свои спектакли кому-нибудь или просто сами для себя наряжались и что-то представляли в квартире, которую снимала бабушка Женя.