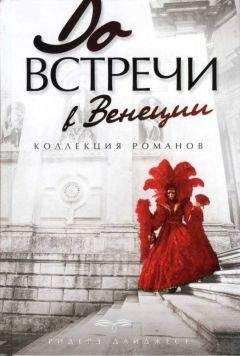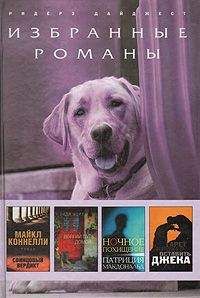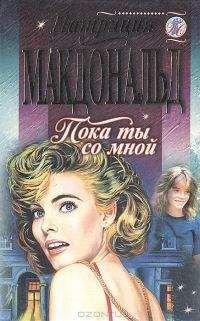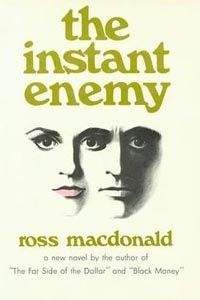Александр Никонов - Жизнь и удивительные приключения Нурбея Гулиа - профессора механики
Так вот, бабушка продала носильные вещи наших мужчин, а купить на базаре перед Новым годом было почти нечего. Только чачи было навалом — закусывать-то было нечем, и чача оставалась. Бабушка купила два литра чачи, а на все оставшиеся деньги приобрела у спекулянтов большую жестяную банку американской тушенки. Гулять, так гулять — Новый год все-таки!
И вот вечером к нам пришили гости — мамины товарищи по студенческой группе — русская Женя, армянин Рубен и осетинка Люба. Бабушка поставила на стол чачу, а Рубен, как мужчина, принялся открывать ножом тушенку.
Нина Георгиевна, знаете, это, вроде, не тушенка, — упавшим голосом произнес Рубен, и все почувствовали запах того, что никак не могло быть тушенкой. Это было то, чем был сам человек, который во время войны и голода распаял банку, выложил тушенку, и нет — чтобы положить туда песок или землю. Он, пачкая руки, наложил туда дерьма и снова запаял банку. Такой урод нашелся, и мы получили «подарочек» к Новому Году …
А я, ползая по полу и шаря под мебелью (мне было тогда три или четыре года), неожиданно нашел под шкафом крупный «кирпич» довоенного черного хлеба! Как он попал под шкаф, почему его не тронули крысы — это остается непознанным, но целый, без единого изъяна, твердый как алмаз «кирпич» был извлечен из-под шкафа и трижды благославлен. Его размочили в кипятке, нарезали ломтями, подали на фарфоровом блюде и разлили по стаканам чачу. Все были счастливы!
И когда перед самым наступлением Нового года Сталин сделал по радио свое короткое обращение к народу, стаканы сошлись в тосте: «За Сталина, за Победу!» Потом были тосты за Жукова, за Рокоссовского и других военачальников. Рубен провозгласил тост даже за своего земляка — генерала Баграмяна. Всех вспомнили, только того, кто нашел этот «кирпич» хлеба, вернувший оптимизм и накормивший страждущих, почему-то забыли. Ну, и ладно, я им это простил!
Утром хозяева и гости долго выползали из-под стола и приводили себя в порядок перед работой. Первое-то января был тогда обычным рабочим днем!
Итак, голод был тогда в Тбилиси нешуточный. Не блокадный Ленинград, конечно, но люди мерли тоже. И вот, появляется на горизонте (а вернее, в нашей квартире) армянин и спасает меня от голодной смерти.
У нас в квартире было три комнаты — две занимали мы, а третью — Рива. Ей тогда было лет двадцать. Ее муж — милиционер Рубен, сперва бил ее нещадно, а затем ушел, забрав с собой сына Борика. Рива ничего не умела делать, ну ровным счетом ничего, даже обеда себе не могла приготовить. Не знала Рива ни по-грузински, ни на идиш, даже по-русски говорила с трудом. Но, забегая вперед, скажу, что жизнь научила ее и русскому, и грузинскому, и идиш — правда говорила она на дикой смеси этих трех языков. Научилась она и обеды готовить и субботы соблюдать и даже мужа нашла себе прекрасного, который и увез ее в большой дом на Ломоносовском проспекте в Москве. Но это
— через двадцать лет. А пока сдали мы одну нашу комнату армянину Араму, который приехал из села Воронцовки и устроился зав. гаражом в Тбилиси. Его машины возили продукты из Воронцовки в Тбилиси: две — направо, одна — налево. Богат Арам был неимоверно!
Бабушка моя (бывшая графиня!) готовила ему обеды, а денег он давал чемоданами. Я даже помню платяной шкаф, вся нижняя часть которого была навалом засыпана деньгами. Бабушка покупала по его заказу икру, груши «Дюшес», фигурный шоколад (напоминавший знакомый мне сургуч по внешнему виду: шоколада я до этого просто не видел). Но Арам был болен туберкулезом уже в открытой форме, и аппетита у него не было.
— Отдайте груши ребенку! — говорил он, не в силах съесть этот редчайший в голодное время деликатес. — Нурик, сургуч хочешь? — звал он меня отведать фигурный шоколад, стоивший килограммы денежных знаков. Икру я даже перестал любить с тех пор, перекормленный ею Арамом. Я выжил и стал крепышом.
Арам же, страшно разбогатев, купил дом в Тбилиси, женился на юной красавице и вскоре умер. От туберкулеза тогда не лечили.
Кому только мы не сдавали нашу вторую комнату. В основном — артистам, которые почему-то активно разъездились в конце войны и сразу после нее. Жили у нас молодые муж и жена — воздушные акробаты из цирка. Голодали, но тренировались. У них не было даже одежды на зиму. Бабушка подарила им пальто и всю теплую одежду Зиновьева, которую не успела продать.
Жили скрипачка и суфлер. Скрипачка (правда, играла она на виолончели) была, видно, психически больной. Она была молода, красива и нежно любима суфлером — правда, тоже женщиной лет сорока. Скрипачка постоянно плакала и пыталась покончить жизнь самоубийством; суфлеру (или суфлерше?) удавалось все время спасать ее. Но скрипачка все-таки сумела перехитрить свою опекуншу и броситься с моста в Куру. От таких прыжков в бурную реку еще никто не выживал, и суфлерша, поплакав, съехала от нас.
Жили муж с женой, имевшие княжескую фамилию Мдивани. Это были администраторы какого-то «погорелого» театра. Жена Люба нежно ухаживала за больным мужем Георгием — у него оказался рак мозга. В больницу его не брали, так как места были заняты ранеными, и он больше месяца умирал, не переставая кричать от боли. Когда Георгий умер, то и Люба съехала от нас.
Приезжали из Баку два азербайджанца-ударника — Шамиль и Джафар, которые играли на барабанах в оркестре. Так они, прожив у нас месяц, не только не заплатили, но одним прекрасным утром сбежали, прихватив кое-что по мелочи и сложив это в наше же новое оцинкованное ведро. Бабушка долго гналась за ними со сломанным кухонным ножом, вспоминая все, какие знала, азербайджанские ругательства: «Чатлах! Готверан!» («суки, педерасты!»). Но азербайджанцы бежали резво, и догнать, а тем более зарезать их, бабушка так и не смогла.
Рива тоже сдавала свою комнату, правда и жила вместе с постояльцами. Мне запомнилась перезрелая пышнотелая певица Ольга Гильберт, немка из селения Люксембург, близ Тбилиси, где почему-то всегда жили немцы. Ольга пила, постоянно срывая свои концерты, и приводила любовника, которого отпускали на это время из Тбилисской тюрьмы. Фамилия его было Кузнецов, и я его называл кузнечиком, благо он был очень похож на это насекомое.
Певица Ольга, буквально, затрахала всю квартиру. Во-первых, своим пением, особенно в пьяном виде и дуэтом с Кузнечиком. Во-вторых, своим полным пренебрежением к нам. Обращение к нам было одно: «Шайзе!» Она утверждала, что это по-немецки «уважаемые». А Риву называла не иначе, как «Юдише швайне». Наше терпение было и так на пределе, а тут мы еще узнали реальный смысл ее обращений, что означало «дерьмо» и «еврейская свинья». Рива палкой прогнала пьяную Ольгу из комнаты и спустила ее вниз по лестнице, причем жили мы на последнем третьем этаже дома с многочисленными верандами, столь характерными для Тбилиси. «Шайзе!» — кричала ей снизу разъяренная Ольга. «Юдише швайне!» — отвечала ей сверху не менее разъяренная Рива. Соседи высыпали на веранды и аплодировали победе над немецким угнетателем.