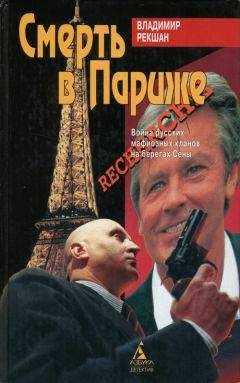Мэтью Бжезинский - Казино Москва: История о жадности и авантюрных приключениях на самой дикой границе капитализма
Когда я вернулся домой, у меня все еще кружилась голова от шока, вызванного ценой этого супа. Но больше всего меня пугало то, что пятилетний срок моего проживания в Варшаве и Киеве оказался слишком мал, чтобы хоть как-то подготовиться к встрече с Москвой. Профессия журналиста бросала меня повсюду – от районов красных фонарей Берлина до контрабандистских коридоров Западной Болгарии, от лагерей беженцев в Будапеште до миротворческих миссий ООН в Косово. Я полагал, что уже знаю кое-что об этом регионе, и думал, что полученный опыт и знания применимы повсюду. Однако здесь мне сразу стало ясно, что Москва жила и развивалась по своим особым, таинственным законам.
Перед нашим подъездом стоял «кадиллак» темно-зеленого цвета. Роберта сказала, что он принадлежит одному господину, живущему несколькими этажами ниже. Потом она поправилась, уточнив, что этот господин сам водит свой «шестисотый», а «кадиллак» с шофером был для его хорошенькой рыжей жены.
Так или иначе, но я начал сомневаться, что мои соседи по дому будут рыться в моих отходах на помойке.
Откровенно говоря, я почувствовал себя вне этого класса. И все-таки втайне я был доволен своим теперешним комфортом и высоким окружением – своеобразной наградой свыше за годы проживания в лачугах, за почти бесплатную работу ради только одного удовольствия быть просто свидетелем истории. Но сейчас все это осталось позади. С этого времени я буду жить широко, получать достойную зарплату и водить дружбу с яркими личностями России. Тепло довольства собой согрело меня, когда я наконец скользнул под хрустящие простыни нашей похожей на сани двухсотлетней кровати.
Москва уже начала окутывать меня своими колдовскими чарами.
Глава вторая
Багаж
Солдаты проломили колуном дверь в нашу квартиру и вкатились в гостиную, как некая расплывчатая черно-зеленая масса, в которой просматривались потные славянские лица. Перемещалась мебель, топали сапоги. Раздался пронзительный крик, и я как-то отрешенно про себя отметил, что кричал я сам, причем на польском языке.
Кто-то рычал на меня по-русски низким и хриплым голосом, будто проигрывали запись на малой скорости. Я не понимал, о чем шла речь, но тон обращений был повелительным, а смысл – угрожающим.
Чьи-то мясистые сильные руки пригнули меня лицом вниз, и я был не в состоянии ослабить их крепкую хватку. Я тщетно пытался освободиться, беспомощно наблюдая за тем, как нашу мебель выносили из квартиры. Шестеро новобранцев пытались вынести наш большой обеденный стол из клена. Они не могли протащить его через дверь и потому пробили кувалдой стену, чтобы расширить проход.
Это был тот самый генерал Красной Армии. Его реабилитировали, и теперь он желал вернуть свое имущество. Он показал пальцем на спальную комнату, где стояла похожая на большие сани античная кровать, на которой под шелковыми простынями спала Роберта. Солдаты, ухмыляясь, направились туда, поглядывая на Роберту с непристойным, похотливым ожиданием.
Я закричал…
Роберта трясла меня:
– Что с тобой? Тебе, наверное, приснился какой-то кошмар.
Это была всего лишь моя третья ночь в Москве, но подсознание уже предупреждало, что я нахожусь во вражеском лагере. Мы закурили, Роберта посоветовала успокоиться и расслабиться.
– Как тебе известно, «холодная война» закончилась, – сказала она.
– Да, конечно, – отрешенно кивнул я, – я знаю.
– Постарайся же быть объективным.
– Хорошо, – не совсем уверенно пообещал я.
Роберта защищала русских, убеждая меня, что коммунизм – это теперь история.
– Ты не смеешь винить русских за деяния Сталина и за все то, что произошло с твоей семьей или с Польшей.
В глубине души я все же чувствовал, что могу их винить и всегда буду делать это, но не спорил, помня, как раньше я так же пытался убедить своего лучшего друга, приехавшего ко мне в Варшаву, в том, что он не окружен оголтелыми антисемитами.
– Извини, – сказал Дэвид, когда я уже полностью выдохся, защищая польско-еврейские отношения, – но Польша для меня всегда будет страной, где произошел холокост. И тут я ничего не могу с собой поделать.
Вот и я тоже ничего не мог с собой поделать, когда приехал в Россию. Для меня не имело значения, что принесли с собой демократия и рыночная революция, Москва всегда будет оставаться для меня сердцем империи зла. Полагаю, мой багаж знаний был слишком велик для того, чтобы думать иначе.
Я вставил в рамку старую фотографию, висевшую когда-то в кабинете отца в нашем загородном доме в горах Лаврентия, провинция Южный Квебек. Это был зернистый снимок, похожий на те пожелтевшие, с загнутыми уголками фотографии, что хранятся в семейных альбомах между листами вощеной бумаги. В нижней части фото чьим-то размашистым почерком была сделана надпись на польском языке: «Наше прибытие». Там же черными чернилами была проставлена дата: 1938 год.
На фотографии была запечатлена типичная морская сцена века огромных пассажирских лайнеров – верхняя палуба большого парохода «Стефан Баторий», курсировавшего по линии Гдыня – Америка. На заднем плане – тонкая струйка дыма, тянувшаяся из одной из его черных труб, когда он преодолевал холодные воды Балтики. «Стефан Баторий» совершал свой регулярный рейс в Нью-Йорк, перевозя через океан состоятельных поляков и немцев, а также несколько еврейских семей, которым посчастливилось выехать из Германии. Снимок сохранил улыбающиеся лица моего отца и членов его семьи, направлявшихся в Канаду, куда мой дед Тадеуш Бжезинский был только что назначен Генеральным консулом Польши. На фото дед выглядел безмятежно спокойным и элегантно одетым – в длинном пальто и мягкой шляпе; закутанная в меха бабушка сжимала в руках небольшой сверток – моего отца. Рядом стояли братья отца – мои дяди – Георг, Адам и Збигнев, в спортивных фланелевых куртках и носках до колен, с взлохмаченными на ветру волосами. Немного поодаль и не совсем в фокусе – гувернантка и экономка, сопровождавшие нашу семью в Новый Свет.
Впереди всей группы, по-королевски развалившись на палубе, лежал Джон – огромная, угрюмого вида немецкая овчарка, пастух нашей семьи.
Все выглядели счастливыми, как будто собрались в отпуск, оставив на несколько лет позади все неприятности, происходившие в Европе. Желанный для деда новый пост был своего рода наградой за трудные дипломатические переговоры с нацистской Германией и Советским Союзом. Его назначение в Германию в 1931 году пришлось на период вхождения Гитлера во власть, на то время, когда нацистские коричневорубашечники еще только начинали патрулировать улицы, а на витринах стали появляться первые надписи «Juden».