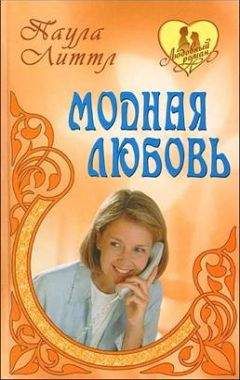Мария фон Бок - Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине
Ездил папа в Игнацегроды обыкновенно в «курлянке» или «нытычанке» – двух экипажах, не боящихся дорог, как бы плохи они ни были. Ехать надо было через длинную деревню Колноберже, начинающуюся около нашей кузницы и доходящую почти до усадьбы нашего соседа Кудревича. Как и во всех литовских деревнях, в ней перед каждым домом садик.
Литовцы очень любят цветы, и садики эти, особенно к осени, когда в них пышно цветут георгины, мальвы и штокрозы, – очень хороши. На каждом доме дощечка с изображением того орудия, с которым хозяин этого дома обязан явиться в случае пожара на то место, где горит. У кого лом, у кого лопата, у многих ведро и т. д. Я очень любила ходить гулять в деревню летом, вечером, когда возвращается скот с пастбища. Входит в деревню огромное стадо коров и овец, сзади один или два пастуха. Стадо прогоняют через всю деревню, которая тянется более, чем на две версты, а коровы и овцы сами сворачивают у ворот своих хозяев, каждая в свой хлев. Стадо тает, тает, и к концу остается одна последняя коровка.
Доехав до мельницы, останавливались и выходили из экипажей. Осмотр мельницы моим отцом, переправа на пароме, причем лошади распрягались, потом кусок дороги по мягкой траве лугов и, наконец, въезд в живописную, запущенную усадьбу – как все это врезалось в мою память.
Господского дома в Игнацегродах не было, и на лужайке, где он, должно быть, когда-то стоял, находилась хата, в которой жил арендатор Харнес.
Папа сразу начинал с ним длинный хозяйственный разговор, а я бежала в парк. Дорожек, конечно, давно не было, все заросло, но сам парк был расположен настолько красиво, что сохранил свою прелесть. Он спускался тремя искусственными террасами к Невяже: на каждой из террас по пруду, а внизу среди зелени лугов узкая, но глубокая серебряная Невяжа. На верхней террасе, против дома арендатора, запрятанный в кустах сирени очаровательный каменный павильон, так называемая библиотека. В этой «библиотеке» мы и завтракали.
К концу завтрака жена Харнеса неизменно являлась с графинчиком домашней наливки собственного изготовления. Графинчик стоял на стеклянном подносе, а кругом него стояли рюмочки – все это голубого цвета, и все это она с глубоким реверансом ставила перед папа на стол.
Наливки у нас дома, конечно, делались, и летом большие четвертные бутылки с вишнями, залитыми спиртом, украшали собой окна колнобержского дома, но подавалась эта наливка только в торжественные дни рождений и именин, почему и стояли в кладовых неимоверные запасы ее. Водку мой отец тоже пил, только когда был к обеду кто-нибудь из соседей, что случалось раза четыре за лето, кроме семейных торжеств. И вспомнить забавно, как графин с водкой запирался осенью в буфетный шкаф, а весной, когда мы приезжали из Ковны, стоял там наполовину полный, готовый к встрече гостей наступающего лета.
Наливка арендатора в Игнацегроде казалась мне необычайно вкусной. Папа позволял мне тоже выпить полрюмки, она обжигала мне рот, и я была в восторге.
Завтрак проходил очень оживленно, и я помню, раз за одним из них случилось следующее.
Моя маленькая сестра, Олёчек, впоследствии убитая большевиками, приводила в отчаяние и мама, и нашу добрейшую м-ль Сандо тем, что никак не могла выучиться говорить по-французски. Мы, три старшие, говорили совсем свободно, даже самая меньшая, Ара, и та лепетала что-то похожее на французский, а Олёчек не могла сказать на этом языке ни одного слова. Было ей тогда лет пять, или меньше даже. И вот вдруг во время завтрака в игнацегродской библиотеке, когда все расшалились, развеселились, хохотали, кто-то из нас говорит:
– Послушайте, Олёчек говорит по-французски!
И действительно, Олёчек много и совершенно гладко говорила по-французски… Папа ее поцеловал, а она важно заявила:
– Это я нарочно все слушала, слушала и молчала, чтобы потом всех удивить.
После завтрака папа приказывал подать лошадей, и мы ехали через леса, в фольварк Эйгули, принадлежащий тоже тете Офросимовой, а оттуда на пароме домой.
Эйгули от Игнацегрод находились довольно далеко, и ехать приходилось верст семь. При въезде в лес кончалось царство арендатора Харнеса и его сменял лесник Павилайтис, который верхом сопровождал наш экипаж, давая объяснения, и отвечая на вопросы моего отца. Павилайтис ужасно любил показывать по плану, куда нам ехать и где мы в данное время находимся. План лежал открытым на коленях у папа, и Повилайтис, ехавший рядом с экипажем верхом, склоняясь над планом в своей фуражке с зеленым околышем, с лошади, водил с воодушевлением по плану тоненькой хворостинкой. Папа говорил в мою сторону:
– Il faut lui faire plaisir (Надо ему доставить удовольствие) и потом, обращаясь к нему: – Ну, Повилайтис, покажи-ка, я что-то не понял, в каком месте, ты говоришь, лес прочистить надо?
Лицо Повилайтиса расплывалось в широкую улыбку, и он с нескрываемой радостью тыкал по плану своей указкой, очевидно, гордясь пониманием плана.
Поездка в Игнацегроды была настоящим пикником, с которого возвращались мы, утомленные и веселые, только часам к пяти-шести. Маленькие же поездки предпринимались часто: в лес за грибами, или ягодами, или на луга. Мы – дети, гувернантки и няни ехали на линейке лошадьми, а папа и мама приходили пешком попозже в то место, где мы, разведя костер, пекли картофель.
«Линейка» эта была сделана домашним столяром, и Осип с гордостью говорил, что она «особая» и что такой «на всем свете не сыскать».
Была она рассчитана на четырнадцать человек, сидящих спина к спине, а сзади был приделан ящик для провизии и калош на случай дождя. Запрягалась в них четверка, цугом, маленьких, сильных жмудских лошадок мышиного цвета, называвшихся «мышаками».
Очень было весело ехать в нашей линейке с пением по полям и лесам в теплый летний день, и очень мы это любили.
Часто ходили мы и пешком с нашими родителями в места более близкие, на наши фольварки (в западном крае так называют хутор.). Было их два: Петровка и Ольгино. Назвали их так в честь папа и мама. Я особенно любила, когда прогулка в Петровку совершалась в субботу.
Этот фольварк находился в аренде у еврея Калмана. Когда мы туда приходили, он и его жена выносили нам стулья в сад для отдыха, а уходя мой отец давал Калманам на чай.
Но в субботу Калман говорил, что не имеет права брать денег в шабаш, и просил положить монеты куда-нибудь в указанное им место – под дерево или на тот же его стул, с тем, что он, когда с появлением первой звезды шабаш кончится, возьмет ее. Когда мы уходили, я нарочно отставала и, спрятавшись за кустом, с любопытством наблюдала всегда одну и ту же картину: Калман, озираясь, выходит из дому, берет деньги и быстро уходит. Вся эта процедура забавляла меня, как забавляло в Ковне встречать едущих по улице евреев с ящиком с землею под ногами. Это означало, что едущий не преступает закона, запрещающего правоверному еврею путешествовать в шабаш: он же стоит на земле, на которой находился к началу праздника, и нет ему дела до того, что его везут паровоз или лошадь, – он сам-то не двинулся с места!