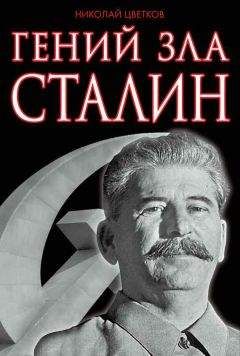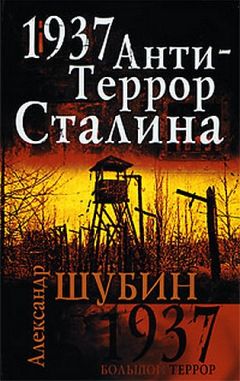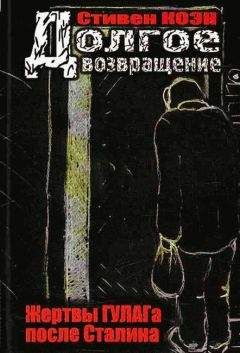Альберт Шпеер - Шпандау: Тайный дневник
В нашем крыле стоит тишина; все заперты по камерам до конца дня. По радио поет женский голос.
Три часа спустя. Не могу избавиться от мысли, что так я буду встречать Рождество еще девятнадцать раз, и снова и снова пытаюсь не думать об этом. Я вспоминаю сочельник 1925 года, когда я приехал к будущей жене в уютную квартиру ее родителей с видом на реку Неккар. Тогда мне было двадцать. На сэкономленные из студенческой стипендии деньги я купил ей настольную лампу с шелковым абажуром и основанием в виде фигурки из нимфенбургского фарфора. Весной 1945-го в Берлине у меня еще была фотография стола, на котором она разложила свои подарки в то Рождество. Потом снимок потерялся. Я любил эту фотографию. Я отпраздновал Рождество с ее родителями, потом уехал в горы, в родительский дом, расположенный посреди паркового леса над долиной Неккара. Это довольно большой дом для людей среднего класса. Елку обычно ставили в просторной гостиной перед камином, облицованным дельфтским изразцом. Эта сцена всегда присутствовала в моей жизни; каждый год на Рождество мы ехали домой по занесенным снегом дорогам. После неизменного ритуала всем раздавали подарки, в том числе слуге Карлу, горничной Катрин, кухарке Берте. Рядом с елкой всегда стояли два ведра с водой; отец дрожащим голосом запевал рождественский гимн. Он обожал Рождество, но совершенно не умел петь, поэтому гимны в его исполнении звучали бессвязно, и после одной-двух строчек он замолкал.
Потом в прилегающей столовой, отделанной деревянными панелями в неоготическом стиле, подавали рождественский ужин. Когда-то здесь устраивали праздничный обед по случаю моего крещения. Мать доставала столовую посуду, полученную в наследство от ее родителей, коммерсантов из Майнца: кобальтовый лиможский обеденный сервиз с золотой отделкой, сверкающие хрустальные бокалы, столовое серебро с перламутровыми ручками и канделябр мейсенского фарфора. Карл облачался в сине-лиловую ливрею с фамильным гербом на специально изготовленных пуговицах, что было не совсем законно; горничная надевала кружевной чепец к черному шелковому платью. В белых перчатках они подавали традиционный вареный вестфальский окорок с картофельным салатом. Мы запивали это Дортмундеким пивом, потому что отец издавна входил в состав правления крупнейшей местной пивоварни.
Как обычно, в семь часов приходит сержант Ричард Берлингер. В соответствии с правилами безопасности он забирает у меня очки и карандаш, потом сдвигает в сторону внешний фонарь.
25 декабря 1946 года. Прохладная ночь. Сегодня я водонос. Распухли пальцы. Несколько дней назад на первом этаже разместили подсудимых по предстоящему процессу лидеров СС. Я пытаюсь подбодрить их несколькими словами; охранник не вмешивается. Их всех ожидает смертная казнь.
Несмотря на холод, я много рисую, чтобы отвлечься. К пяти часам пальцы снова распухли. Я заворачиваюсь в свои четыре одеяла и, натянув на голову капюшон, читаю Псалом крестьянина Тиммерманна. Вечером приносят горячий напиток, но я не могу понять что это: чай или кофе. Ширах передал мне большой кусок великолепного пирога и немного масла из своей рождественской посылки.
Размышляю о Наполеоне, которого Гёте сначала окрестил чудовищем, а десять лет спустя провозгласил историческим явлением мирового значения. А что, если европейский миф о Наполеоне и связанный с ним культ великого человека создали предпосылку для той покорности, с которой европейская буржуазия (да и рабочий класс, обожествлявший своих Маркса, Энгельса и Ленина) уступила Муссолини и Гитлеру? Мы все были очарованы великими историческими личностями; и даже если человек не представлял собой ничего выдающегося, а только играл роль, причем без особого таланта, мы ему поклонялись. Именно так было в случае с Гитлером. Думаю, он добился успеха отчасти благодаря той наглости, с которой он изображал из себя великого человека.
28 декабря 1946 года. Когда я возвращался из душа сегодня, мне принесли рождественскую посылку от родных. Меня потрясла ее скудость. Как же плохо обстоят дела во внешнем мире! Я глубоко тронут. Мой старший сын, двенадцатилетний Альберт, прислал мне два выпиленных лобзиком орнамента; другие дети наклеили серебряные звезды на красную оберточную бумагу. Глядя на эти подарки, я на время лишился самообладания.
Из-за короткого замыкания ненадолго гаснет свет. Благословение для моих глаз, потому что даже ночью мы живем в сумерках. В половине одиннадцатого, прислонившись к двери, я слушал музыку, доносившуюся из приемника охранника.
Полночи провел в размышлениях. Я должен научиться воспринимать тяготы заключения как своего рода спортивные упражнения.
30 декабря 1946 года. Хорошо спал. Пятна обморожения на руках почти прошли. В камере сегодня гораздо теплее; пар изо рта едва заметен.
В половине одиннадцатого охранник, приковав меня к себе хромированными наручниками, ведет меня на встречу с адвокатом Кранцбюлером и профессором Краусом. На процессе Кранцбюлер защищал Дёница, а профессор Краус представлял Шахта. Оба будут выступать на стороне обвиняемых на предстоящих «малых нюрнбергских процессах». На встрече также присутствовал доктор Шармац, прокурор с американской стороны. Естественно, я был рад такому развлечению: но именно это и превращает меня в типичного заключенного.
Жена прислала мне новый номер архитектурного журнала «Баувельт». На его страницах я увидел план реконструкции Берлина, разработанный Шаруном. Совершенно невыразительный эскиз; единственный графический элемент проекта — долина реки Шпрее (которую не видно). Город будет поделен на утилитарные районы прямоугольной формы. План не учитывает концепцию «архитектоники» Берлина, в нем нет ощущения эволюции города и нет никакого упоминания о проблеме железнодорожного вокзала, над которой я столько времени ломал голову. Такой план — символ столицы, потерявшей надежду. Из крайности гигантизма в крайность отречения; на смену мегаломании приходит застенчивость. Крайности — это настоящая немецкая форма выражения. Конечно, это не так. Но оказавшись в нынешней исторической ситуации, мы неожиданно начинаем в это верить и, как ни странно, получаем огромное количество разных доказательств, пока истина (всегда сложная и запутанная) не превращается в какое-то неясное пятно.
31 декабря 1946 года. Сегодня кончается 1946 год. «Альберта Шпеера к двадцати годам тюремного заключения». Как будто это было вчера.
1 января 1947 года. В новый год вошел в подавленном настроении. Подметал коридор, прогулка, потом — в церковь. Мы с Дёницем пели громче обычного, потому что Редер болен, а Функа должны положить в лазарет. Только напряжение, в котором я находился во время процесса, заставило меня поверить, что я верю. Сейчас церковные ритуалы снова кажутся мне лишенными смысла. Ограниченность перспективного восприятия человека. Но это лишь наиболее очевидные условия, окрашивающие наши мысли. А сколько условий влияет на каждое суждение; условий, о которых мы даже не подозреваем?