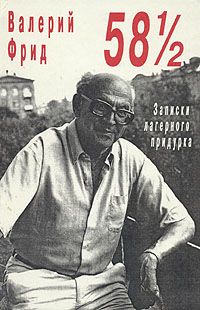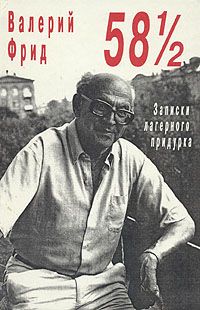Хэди Фрид - Осколки одной жизни. Дорога в Освенцим и обратно
Я подошла к пианино и взяла несколько аккордов, потом — к книжной полке и вынула несколько книг. Рембо, Вийон, Джеральди — я не смогу взять вас с собой. И моих любимых венгерских поэтов тоже — Отило и Арани. В ту минуту я дала себе клятву: никогда не буду жалеть о вещах, ни о чем, что можно купить за деньги. Но я не могла не пожалеть куст жасмина в саду, который тянулся, беззащитный, к голубому весеннему небу. Там я, бывало, пряталась, когда хотела побыть одна; эти цветы утешали меня, когда мне было грустно.
Луч весеннего солнца заглянул в просвет между шторами, и я проснулась с острой болью в груди. Наступило утро понедельника, и мне нужно было поторопиться, чтобы купить хлеб. Скоро за нами придет полиция в своих украшенных петушиными перьями шапках.
Я накинула одежду, побежала в пекарню, купила хлеба и помчалась домой. По дороге я встречала людей, спешивших по таким же делам. Мы лишь обменивались приветствиями. У нас было слишком много забот.
Когда я пришла, мы сели завтракать. Каждому хотелось поддержать остальных. Мама была безутешна, папа старался говорить только о делах, а моя четырнадцатилетняя сестра была еще слишком мала, чтобы до конца понять, что происходит. Она радовалась — ей все это казалось увлекательным приключением. Я старалась не терять голову, но сердце мое болело от тяжелых предчувствий. Было ли наше переселение самым страшным, что могло с нами случиться, или это только начало чего-то еще более ужасного?
Я спрятала свои дневники на чердаке вместе с любимыми книгами и надеялась, что скоро смогу вернуться и забрать их. Мы уже отдали все ценности соседке, госпоже Фекете, которая взялась их спрятать. Однажды, в марте, она пришла к нам и рассказала, что ее муж, офицер венгерской армии, слышал, что нас выселяют. Она подумала, что нам будет трудно спрятать свои ценности, их давно следовало сдать властям. Когда семья выселялась, дом обыскивали, и если находили что-нибудь ценное, наказание было суровым. Она предложила помочь нам сохранить наши ценности, пока мы не вернемся. Я оставила себе только тоненькую цепочку с сердечком и клевером и маленькое оловянное колечко, которое мне подарил мой друг Пую.
Я поднялась в свою комнату и огляделась. В этой комнате я жила, в ней выросла из ребенка в девушку, и вот теперь должна ее покинуть, может быть, навсегда. Даже если я вернусь, то уже буду другим человеком. Когда я закрою дверь этой комнаты, это будет навсегда.
Комната находилась в мансарде, маленькая, с двумя оконцами. Я посмотрела в одно из них на наш сад с моими любимыми жасминовыми кустами, абрикосовыми и ореховыми деревьями и конурой старого верного Бодри. Мы не сможем взять его с собой. Другое окно выходило на соседний двор, где в такой же мансарде жил Гева, моя первая большая любовь. Сколько раз просиживала я у окна до глубокой ночи и шептала слова любви, обращаясь к его силуэту! Или смотрела на луну и вздыхала в тоске.
В моей комнате было не много мебели. Две узкие кровати, стол, четыре стула и книжная полка, картинки на стенах и зеркало, а из угла смотрела пустая железная печка. Больше здесь ничего бы не поместилось, но благодаря теплым тонам комната совсем не выглядела спартанской. Это была часть меня, но я горевала не столько о комнате, сколько о своих книгах.
Медленно тянулись часы. Завтрак был окончен; посуда вымыта. Я то и дело подбегала к окну посмотреть, не приближаются ли развевающиеся петушиные перья. Эвакуация должна была начаться с городской площади, а мы жили почти у самой железнодорожной станции, так что пройдет несколько часов, прежде чем очередь дойдет до нас. Из 30 000 жителей города половина были евреи. Эвакуация займет несколько дней. Вот пришла последняя газета и последняя почта. Я подошла к Бодри и в последний раз погладила его. Я все время сознавала, что все это я делаю в последний раз. Будет ли у нас время пообедать? Так как полиция еще не показалась на нашей улице, мама позвала меня накрывать на стол. Мы решили приготовить что-нибудь на скорую руку. Мама попросила меня принести из кладовой гусиное сало. Оно хранилось в больших банках; осенью мама обычно покупала несколько гусей и топила сало, чтобы его хватило на всю зиму. Она всегда следила, чтобы мы расходовали его экономно. Гусиное сало было дорогое.
Но на этот раз, когда я принесла маленькую ложечку сала, мама взглянула и сказала:
— Иди и возьми побольше. Сегодня нам не нужно экономить сало. Нам придется его все оставить здесь.
Я сходила и принесла еще. Мама сделала яичницу-болтунью, которая получилась вкуснее, чем обычно.
— Насколько вкуснее получается, если не скупиться на сало, — заметила я.
Мы ели яичницу со свежим хлебом и пили чай. Обедали в полном молчании, но все думали об одном и том же. Это наш последний обед. Когда полиция вошла в нашу калитку, я пошла в туалет и последний раз спустила воду. Шум воды сопровождал меня, когда я шла на кухню навстречу «петушиным перьям». Им не пришлось ничего говорить. Молча мы собрали свои вещи и покинули дом. Было неприятно идти через весь город в сопровождении «петушиных перьев». Любопытные соседи выглядывали из-за занавесок, не решаясь выйти наружу. Ни один человек не выразил нам сочувствия, хотя мы жили бок о бок все эти годы, делили радости и горе.
Через полчаса мы достигли гетто. Это была бедная часть города, которую обнесли стеной, выселив жителей-христиан. Нам отвели маленькую комнату в бедном домишке, состоявшем из двух комнат и кухни. Вторую комнату занимала хозяйка, бедная вдова, и ее семеро детей.
Мы вошли во двор, и нас встретила женщина, она громко причитала. Я узнала ее — это была тетя Мария, которая помогала нам по дому, стирала белье.
— Кто бы мог подумать, что такие приличные люди, как вы, будут вынуждены ютиться в моей каморке. О, Господи! — причитала она, ломая руки. — Этого Гитлера надо заживо сжечь. Что с нами будет? Что он еще придумает? Сжечь его надо живьем.
— Успокойтесь, Мария, дорогая, — сказал отец. — Все образуется. Мы не будет вам сильно мешать. Будем сидеть в своей комнате. Я счастлив, что мы можем жить здесь с вами.
— Вы меня не стесните. Можете пользоваться кухней, и я вам буду во всем помогать.
— Но у нас нет денег, чтобы платить вам, — сказала мама.
— Это неважно. Я не прошу денег. Вы всегда были добры ко мне.
Пока они разговаривали, мы с Ливи разглядывали хныкающих детей, которые то и дело бегали в дом и обратно. Мы знали, что у Марии много детей, но до сих пор ни разу их не видели.
— Можешь играть с моей куклой, — сказала девочка примерно Ливиного возраста. Она с обожанием смотрела на Ливи и не сразу решилась обратиться к ней.