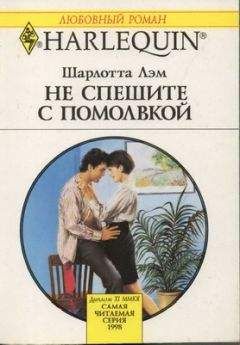Леон Дегрель - Гитлер на тысячу лет
В августе 1936 г. я имел продолжительный разговор с Гитлером. Встреча прошла великолепно. Он был спокоен и уверен в себе. У меня же за плечами было мои двадцать девять лет, плюс смелость и отвага.
«Никогда ещё мне не доводилось встречать такого человека среди людей его возраста» — несколько раз повторил Гитлер Риббентропу и Отто Абецу после нашего разговора. Я воспроизвожу эту оценку не для того, чтобы по павлиньему распустить хвост, но чтобы показать, что мы быстро угадали друг в друге родственные души, и он с интересом выслушал всё, что я говорил ему на протяжении нескольких часов в присутствии Риббентропа.
Так что же я ему предложил? Ни много, ни мало, как устроить встречу между Леопольдом III и Гитлером в Эйпен-Мальмеди, другой земле, которая в соответствии с Версальским договором также была отчуждена от Германии, но на этот раз в пользу Бельгии по результатам откровенно сфальсифицированного плебисцита — те, кто был не согласен с этим решением должны были публично подтвердить своё несогласие в письменном виде, тем самым, рискуя добровольно внести себя в список будущих подозрительных лиц!
Кто в таких условиях решился бы на это?
Напрасно по всей Бельгии радостно ударили в колокола, празднуя так называемое присоединение! Это было недальновидным решением, вся несостоятельность которого не замедлила бы сказаться в ближайшее время. Поэтому, на мой взгляд, необходимо было постараться упредить возможные претензии и закопать топор войны в том самом месте, где существовала опасность, что он будет пущен в ход.
Гитлер сразу согласился с моим предложением — провести плебисцит, подготовительная кампания к которому должна была ограничиться совместным выступлением глав двух государств перед собранием местных жителей, где каждый из них вежливо и публично изложил бы свою точку зрения по этому вопросу; после проведения плебисцита должно было состояться второе собрание на тех же условиях, где независимо от результата, главы обеих стран скрепили бы примирение двух их народов.
Если Гитлер — даже больше, чем Леопольд III, которому я сделал аналогичное предложение — был склонен пойти на это мирное решение, то в 1936 г. у него было ещё больше оснований согласиться с планом по совместному мирному решению проблемы австрийских, чешских, датских и прочих границ, не говоря уже о дружеском соглашении с Польшей, которая с 1933 г. примирилась с Райхом, и, с другой стороны, состояла в дружеских отношения с Францией, каковая в этом случае могла бы стать прекрасным посредником для достижения окончательного урегулирования.
Учитывая, что незадолго до этого маршал Петен и маршал Геринг уже встречались и именно в Польше, в подобном развитии событий не было ничего невозможного.
С 1920-го г. не было ни одного государственного деятеля, который сомневался бы неразумности решений, принятых по результатам первой мировой войны по поводу Данцига, польского коридора и Силезии.
Решения, принятые тогда были несправедливы, так как основывались либо на принуждении, либо на результатах сфальсифицированных плебисцитов.
Ещё до того, как возник вопрос об аншлюсе и Судетах, следовало принять иное, тщательно продуманное и разумное решение, поскольку тогдашняя обстановка, как в Польше, так и в Германии, способствовала высокому уровню сотрудничества. Дошло до того, что когда президент Гаха, отвергнутый словаками, доверил Гитлеру 15 марта 1939 г. решить судьбу Богемии, Польша под командованием полковника Бека приняла участие в военном вторжении, захватив тешинский край в Чехии. Тогдашней Польше было бы трудно отказаться от серьёзных переговоров со своим весенним союзником.
Без провокационного вмешательства англичан в конце апреля 1939 г., посуливших полковнику Беку — человеку физически и финансово испорченному — «банку варенья и ящик печенья», подобное соглашение вполне могло бы состояться.
Достаточно было воззвать к здравому смыслу французов. Гитлер публично навечно отказался от Эльзаса-Лотарингии. У него не было ни малейшего намерения скрестить шпаги с непригодной для ассимиляции Францией, то есть, говоря другими словами, не представляющей никакого интереса для захватчика.
Со своей стороны, Франция также не могла ничего выиграть от этого столкновения. Насколько плодородные восточные земли искушали Гитлера — искушение, которое Западу, желающему избавиться от немецкой угрозы на ближайшие сто лет стоило бы скорее поощрять, побуждая его двигаться в этом направлении — настолько же заведомо бесплодная война с Францией не пробуждала в нём ни малейшего желания.
Глава бельгийского правительства, — сын, внук и правнук французов — объясняющий французам всю жизненную значимость их роли как посредников, как это неустанно делал бы я, сидя перед микрофоном в радиостудии, смог бы оказать влияние на умы французов.
Как бы то ни было, я бы попытался сделать невозможное.
До самой смерти я не перестану жалеть о том, что мне не удалось успеть захватить власть вовремя, пусть даже она давала мне лишь минимальный шанс сохранить мир. Я бы использовал этот шанс с максимальной эффективностью. Моё страстное стремление к миру продиктовало бы мне необходимые слова. Французский народ хорошо чувствует звучание слов. И он был достаточно зрел для понимания того языка, на котором я бы к нему обратился.
И можете мне поверить, самое удивительное здесь заключается в том, что именно Гитлер виновен в том, что добыча ускользнула из моих рук, в том, что мне не удалось вовремя взять власть железной рукой; власть, которую я бы уже никому не отдал. Его стремительное вторжение в Австрию, в Судеты, в Чехию и начавший вслед за этим раздрай с Польшей напугали бельгийское общество и оборвали моё восхождение к вершине власти. Но, несмотря на это, в тогдашней прессе обо мне постоянно писали как об орудии Гитлера, как о марионетке Гитлера. Я никогда не был ничьей марионеткой, ни Гитлера, ни кого-либо ещё, даже во время войны, когда я сражался бок о бок с немецкими войсками на Восточном фронте. Это подтверждают все тайные архивы Третьего Райха. Никогда, ни в 1936 г., ни позднее я не получал от Гитлера ни одного пфеннига, ни одного приказа. Да и сам он никогда и ни в чём не пытался повлиять на меня.
Напротив, позднее, обеспокоенный смутными политическими перспективами войны, я без обиняков высказывал ему свои сомнения. Его основной переводчик, доктор Шмидт, обычно присутствовавший в этом качестве при наших беседах, уже после войны сам рассказывал в прессе о том, что я разговаривал с Фюрером так смело и резко, как не осмеливался никто другой перед лицом этого собеседника.