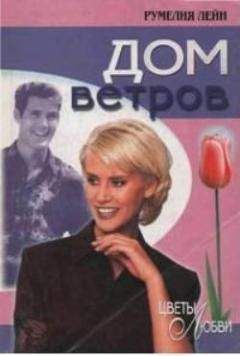Нина Воронель - Содом тех лет
Ровно через неделю я опять звонила у знакомой двери, зажимая под мышкой большую папку со сравнительным анализом полутора десятков переводов 66-го сонета. Похоже, я перестаралась, – увидев мои листки, К. И. поморщился:
– Ну зачем же всех без разбора? Нужно было отобрать тех, что получше.
Однако листки взял и долго их рассматривал, разглаживал, сверял.
– А, в общем, молодец! На первый раз справилась, можно двигаться дальше.
И вручил мне обещанную купюру, которая позволила нам всю неделю мазать масло на хлеб. Ведь большая часть ничтожной Сашиной зарплаты уходила на съем переменной квартиры, из которой нас каждый раз ровно через месяц после въезда выгоняла милиция, потому что у нас не было московской прописки. По этой же причине я не могла устроиться на работу, и мы жили впроголодь, спасаясь в основном за счет смелой реформы Никиты Хрущева, распорядившегося в народных столовках держать на столах нарезанный хлеб. Мы брали по стакану чая за 32 копейки и заедали его хлебом с горчицей, тоже щедро расставленной по всем столам. Впрочем, примерно раз в три месяца мы обогащали свой рацион контрабандной паюсной черной икрой, присылаемой Сашиной мамой из прикаспийского города Махачкала. Банку такой икры мы съедали за два-три дня, зачерпывая густую черную массу столовой ложкой, а потом опять возвращались к хлебу с горчицей.
Всех этих подробностей К. И., конечно, не знал, – я стеснялась открывать ему нищенскую подноготную нашего быта, – но понимал, что мы страшно нуждаемся. Игрунчик по природе, он любил превращать вручение мне денег в театр одного актера. Мы обычно располагались с моими листочками в столовой, попивая при этом чаек с печеньем, и по окончании работы К. И. выходил в свой кабинет, откуда возвращался бочком, изображая крайнее смущение, медленно подходил ко мне, как бы не решаясь, а потом быстрым движением совал мне в ладонь свернутую в трубочку банкноту. Глаза его при этом сияли – вот, дескать, какой я молодец, ехал на ярмарку ухарь-купец!
Так же сияли его глаза через несколько лет, когда в сиреневом двухтомнике Оскара Уайльда после длительной борьбы был опубликован мой перевод «Баллады Редингской тюрьмы».
– Ну, молодец я или нет? – ликовал К. И. – Разве я не обещал, что мы их всех победим?
На что я, изрядно к тому времени осмелевшая, парировала:
– Были бы вы молодец, им не удалось бы вашу вступительную статью из двухтомника выбросить.
Не знаю, как К. И. пришла в голову фантастическая идея предложить мне переводить знаменитую Уайльдовскую «Балладу», мне – двадцатитрехлетней провинциальной дурочке, только-только закончившей физико-математический факультет Харьковского университета. Теперь эта идея представляется мне в каком-то смысле не менее опасной, чем тайная переписка с Зеевом и Жаботинским. Ведь по существовавшей тогда (да, думаю, и сейчас) казенной табели о рангах за маститых писателей полагалось браться людям маститым же – зрелым, умелым, зарекомендовавшим себя предыдущими достижениями.
Теперь уже не узнать, чувствовал ли себя К. И. рядом со мной Пигмалионом или хотел насолить сыну Коле, жаждавшему этот заказ от него получить. Но какова бы ни была причина, он сказал мне однажды небрежно, как бы между прочим:
– Не хотите попробовать перевести одну вещицу для сборника Оскара Уайльда, который я составляю?
– А что именно? – спросила я, припоминая все то из Уайльда, что я знала и любила, – «Кентервильское привидение», «Как важно быть серьезным», а может, «Портрет Дориана Грея»? Но чего вдруг – ведь я не переводила прозу?
– «Балладу Редингской тюрьмы», – ответил К. И., и я онемела. «Баллада» уж точно была мне не по зубам.
Уловив смятение на моем лице, К. И. тут же начал играть со мной в кошки-мышки:
– В чем дело? Чего вы испугались?
– Да кто мне позволит?
– Что значит – кто, если я вам предложил! Ведь это задача в вашем вкусе – взяться за то, что у других не получилось.
– А вы не боитесь, что и у меня не получится?
– Чего мне бояться? Это вы должны бояться. Мне что – если у вас не получится, я ваш перевод не возьму. Зато, если получится, я вас в обиду не дам.
И я согласилась – сдуру, конечно, совершенно не представляя, в какую петлю лезу. Ведь не случайно никому до тех пор не удалось передать музыку и значительность Уайльдовского стиха – дело в том, что английская баллада должна вместить все свои красоты в очень короткую строку, параметры которой продиктованы особенностями английского языка, по сути своей односложного. В нем почти все слова ударные, они следуют друг за другом, как на параде, отбивая чеканный шаг.
Русский же язык по природе своей многосложный, с малым количеством ударений, гибкий, плавный, струящийся, словно ручей по камешкам. Он совсем не стремится ставить точки над «и» – недаром в русском языке нет «и» с точкой. Какая это была мука – втискивать длинные текучие русские слова в короткую чеканную строку баллады! И какое наслаждение!
Когда я принесла К. И. перевод первой главы, у меня от волнения опять открылась закрывшаяся было язва. Сначала он велел мне прочесть отрывок вслух. Услышав строки:
«Ведь каждый, кто на свете жил,
Любимых убивал.
Один жестокостью, другой
Отравою похвал.
Коварным поцелуем трус.
А смелый наповал»,
– он радостно потер руки, обращаясь к невидимой аудитории, – мол, я же говорил!
А когда я прерывающимся голосом прочитала:
«Не каждый должен видеть высь,
Как в каменном кольце,
И непослушным языком
Молиться о конце,
Узнав Каиафы поцелуй
На стынущем лице».
К. И. выхватил у меня рукопись и начал жадно ее читать. Чем дольше он читал, тем безудержнее была его радость:
– Ох, эти провинциальные еврейские девочки! На что только они не способны! Валяйте, переводите дальше!
И я отправилась в дальнейший путь. Я билась над переводом «Баллады» два с половиной года, а ведь текст там вовсе не длинный – всего 660 строк.
За это время мне посчастливилось попасть в Литературный институт – клянусь, положа руку на сердце – безо всякой протекции. Я ни слова не сказала К. И. о своей попытке прорваться в недоступный питомник советских писателей, куда евреев не принимали принципиально. Стыдно признаться, но мне не столько нужно было литературное образование, сколько полагающаяся студентам московская прописка.
И мне опять повезло – в тот год в Литинституте впервые открыли переводческое отделение, и в эту щель немедленно просочилась горсточка моих соплеменников, включая и меня. Поскольку подправить свое образование мне тоже было невредно, я со страстью погрузилась в захватывающий мир людей, живущих словом, рифмой, строкой.