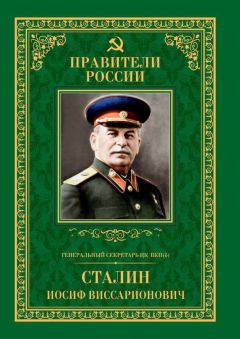Франсуаза Саган - Не отрекаюсь…
А другие страсти? Честолюбие, скупость…
Скажем так, есть страсти, интересующие меня меньше.
Меня особенно поражает в людях, которых я знаю, которых знала, да и во мне самой есть это неизбывное одиночество – а ведь это тема не безобидная, не мелкая тема. Это сознание своего «я», незыблемого, потерянного и некоммуникабельного одновременно. В сущности, почти биологическое. Все более или менее от этого страдают, это ведь даже один из первичных постулатов: человек рождается один и умирает один. Когда люди отрекаются от любви, они, разумеется, могут найти прибежище в честолюбии, скупости или привычке; но пока не отреклись, они крепко держатся за ближних.
Но вы, похоже, думаете, что человек очень одинок и в любви.
Да, но это уже вторичный взгляд на вещи. Первичный рефлекс таков: я был один, нас станет двое. Только после человек понимает, что это не так. Впрочем, в моих романах герои всегда одиноки в любви.
Как вы оцениваете ваших героев и героинь?
Есть такие, что мне очень нравятся. Например, Жолио в «Через месяц, через год». Он какой-то чистый, стремительный, никогда не лукавит. Вообще, герои моих книг мне интересны. Некоторые критики называют их пустышками. Я их выбрала, для меня они не могут быть пустыми. Я сумела включить в портретную галерею несколько карикатур забавы ради. Но мои персонажи – не пустышки. У них обычно то же отношение к жизни, что и у меня, отношение во многом несерьезное. Я ненавижу серьезность. По мне куда приятнее и даже эстетичнее известное легкомыслие. Пустышки занимаются в жизни малоинтересными вещами. У меня нет к ним тяги. Пустота сама по себе ужасна. Беззаботность – дело иное, мне она представляется формой жизни. Кстати, мои герои всегда были молчаливы: я не давала им много времени, чтобы высказаться, но это не значит, что они не думают. И еще я не люблю описывать их внешность: пусть ее дорисует воображение читателя.
Надо ли искать в ваших книгах вас?
Систематически, начиная со «Здравствуй, грусть», меня обвиняют в том, что я пишу собственный портрет. В «Любите ли вы Брамса?» моей героине было сорок два года, мне – двадцать четыре, и все равно меня узнали в ней. Что бы я ни написала, героиня – это я! Конечно, есть точки соприкосновения. Когда женщина говорит о другой женщине, иначе быть не может. Думается, я разделяю с ними бесконечное любопытство к жизни. И потом, они представляют себе свою жизнь только в связи с кем-то… Есть женщины, имеющие очень четкое представление о себе, они охотно дают понять: я прямодушна, чуть грубовата и т. д.; мои же героини – нет, они познают себя и свои возможности только через кого-то.
Это именно ваш случай?
По правде сказать, не совсем, и это естественно, потому что я пишу и тем самым определяюсь. Себя и свои возможности я познаю в схватке с чистым листом бумаги. Но вне этой ситуации я «вижу» себя только в связи с кем-то. Впрочем, писать роман значит лгать; вот, например, «В поисках утраченного времени», моя любимая книга, написана совершеннейшим лжецом. Все изменено, преображено. Это одно из самых прекрасных произведений – и самых правдивых, потому что Пруст глубоко сжился с этой постоянной ложью… Когда установится равновесие между им истинным и им написанным, писатель перестанет писать. Писатель – вдохновенный лжец, фантазер, безумец; уравновешенных писателей не бывает.
У вас есть определение литературы?
Для меня литература – это такая блажь, когда придумываешь персонажей, которых знаешь лучше, чем собственных родителей, которые становятся твоими друзьями. Когда сознательно пишут, чтобы «было посовременнее», мне до смерти скучно.
Новые течения…
Я не верю ни в течения, ни в разговоры об обновлении романа. Сколько еще надо узнать о человеке! Я бы сравнила писателя с лесорубом. Дерево слишком огромно, чтобы тратить время на изучение топора.
Литература – это Бальзак, в халате и с чашкой кофе, написавший: «И вдруг он увидел ее, и влюбился в нее безумно, и умер у ее ног, плача, и последняя слеза скатилась по его щеке»; это, конечно же, Пруст, это Достоевский, описавший эпилептические припадки князя Мышкина… Каждый писатель хочет быть Прустом. Это, по-моему, очевидно. Вот только Пруст был гений.
А вы?
Не думаю; талант – да, но не гений, нет.
Вы много читаете?
В пятнадцать лет я набрасывалась на все, что напечатано, это был рефлекс. Слова, слова, слова, как сказал бы Сартр. Я четыре года прожила в горном шале близ Гренобля. Больная, усталая, малокровная. Вот тогда я много читала: Ницше, Жида, Сартра, Достоевского, вообще всех русских классиков. Много стихов, Шекспира, Бенжамена Констана. Это было в войну, в пору маки в Веркоре. В литературном плане главным было открытие Пруста и Сартра; потом – Достоевский, Стендаль, кое-что из Фолкнера. В этой области у меня исключительно классические предпочтения. Из современных писателей я восхищаюсь талантом многих: назову Симону де Бовуар, особенно ее «Гостью», творчество Маргерит Дюрас, первые книги Натали Саррот, некоторые – Франсуазы Малле-Жорис, Ива Наварра, Мальро. Но только один меня ни разу не разочаровал – это Сартр. Его персонажи таковы, каковы они есть; они живут, лепя свою статую. Статую из песка, быть может, но это неважно. Главное – лепить.
Что вы цените в первую очередь у писателя?
Я бы сказала «голос». У некоторых писателей есть свой голос, который слышишь с первой же строчки, как слышишь живой голос человека. Это для меня главное. Голос, или тон, если вам так больше нравится.
А что вы чаще всего перечитываете?
Часто перечитываю Пруста. Помню, как перечитывала его в Индии. Воды Ганга и гостиная мадам Вердюрен очень занятно смешались в моей памяти. Много читаю Шекспира. И Расина, которого находила скучным в лицее, как все. Но когда полюбишь французский язык, Расин завораживает. Еще я знаю множество стихов наизусть. Аполлинера и Элюара могу декламировать километрами.
А «Здравствуй, грусть» вы перечитывали?
Нет, никогда. А да, полистала однажды, довольно давно. Я обнаружила в ней одновременно наивность и лукавство, которых прежде не замечала.
Почему, когда и каким образом вы пришли к театру?
Впервые написать пьесу для театра мне пришло в голову в 1954-м. Мы – Флоранс Мальро[6], Бернар Франк и я – гостили в Бюже у Франсуа Мишеля, в Монтаплане. Дом был темный, большой; уединенно стоящий, в несколько этажей. На холме. Он походил на бункер. Однажды вечером Бернар Франк рассказал историю молодого человека, хвастуна и задиры, который в определенных обстоятельствах преобразился в робкого влюбленного, в рохлю. Это запало мне в душу. Первый вариант этой пьесы я написала только зимой 57-го, когда только закончила «Через месяц, через год». Я гостила с друзьями на мельнице, близ Милли-ла-Форе. Стояли холода. Вечера были долгие, и я немного скучала. Жизнь текла будто в замке из далекого прошлого. Чтобы развеяться, я написала веселую историю о людях, запертых в доме. Тогда я не думала, что это будет пьеса, не помню даже, было ли уже у нее название… Вскоре после этого Жак Бреннер попросил у меня текст для своего журнала «Кайе де Сезон». И я предложила ему этот набросок комедии: «Замок в Швеции». Его прочел режиссер Андре Барсак; он был не очень разговорчив, но сказал мне, что ему нравится тон. Он попросил меня переработать текст. Пьеса была недостаточно длинной, ей не хватало хребта. Мотивации были недостаточно ясны. Юмор оставался за рампой… Для театра надо завязывать узлы и потом их развязывать. Барсак очень мне помог; мы виделись практически каждые три дня в течение месяца, пока не доработали пьесу… Как видите, моему дебюту в театре я обязана чередой случайностей. Причины, побудившие меня пойти дальше по этому пути, быть может, не столь серьезны, но очень весомы: репетиции забавляют меня до безумия. Париж, театр – и складывается что-то вроде огромной семьи. Важен даже запах театра, пустого театра, где все начинают работать. Это на самом деле очень увлекательно – поначалу, во всяком случае, – слышать, как «произносят» то, что ты написала. Это чудесно, просто невероятно. Потому что это одновременно то и не то, ты узнаешь себя и не узнаешь. Этим проникаешься внезапно, слышишь, как актер произносит свою реплику именно так, как тебе хотелось, и твои персонажи вдруг обретают лицо. Я люблю кулисы, период репетиций, всю игру, которую они предполагают, серьезность актеров, спрашивающих: «О чем я думаю, когда открываю дверь?», их способность находить другую правду, не ту, о которой думала я, когда это писала.