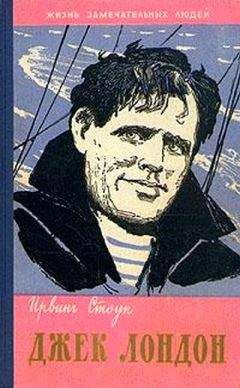Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
А в первый раз дело было, наверное, числа 20 июля 1963 года. Нина с нашим новорожденным первенцем была еще в родильном доме. Мы с Виноградовым шли под вечер по Невскому в "Кавказский" ресторан (в подвале у Казанского собора) отметить мое отцовство. На подходе к ресторану увидели бредущего навстречу Иосифа. Помню, что мы оба с Виноградовым обрадовались. К этому времени уже отношение к Иосифу переменилось, снисходительная ирония сменилась живым интересом к необычному человеку. Мы объяснили Иосифу, что празднуем," позвали с собой. Он с большой охотой согласился. Отпировав под звуки зурны и тамбурина, мы, разумеется, не захотели расставаться. Купили еще водки и пошли к Иосифу, который жил тогда поблизости, на канале Грибоедова, в квартире Томашевских. Хозяева уехали в Крым. Я был взволнован — с тех пор, как меня увезли из этого дома в 46-м году, я не так уж часто возвращался туда, а после переезда отца в Москву в 50-м вообще был только один раз. Теперь в моем пребывании в этом доме было что-то незаконное, вроде визита украдкой в перешедшее в чужие руки родовое гнездо. Но я со своими товарищами этими сентиментами не делился. Мы заглянули в кабинет покойного профессора, где стеллажи стояли поперек комнаты, как в библиотеке, и сели со своей водкой на кухне продолжать ресторанный разговор. Именно разговора нам троим не хотелось прерывать, потому мы и пошли к Иосифу, но о чем мы так взволнованно говорили, я не помню. Белые ночи уже прошли, но тьма еще наступала ненадолго, уже светало, и мы сидели за столом, я напротив Иосифа, а Виноградов между нами, и говорили все громче. Я сказал что-то возмутившее Иосифа, и он, почти крича, стал стучать по столу кулаком. "Вот ты стучишь на меня кулаком, — сказал я ему, — и это выдает, что подсознательно ты хочешь меня убить". Как он осекся! Изрекая, не совсем всерьез, свое квазифрейдистское замечание, я никак не ожидал такого эффекта. После паузы он сбивчиво заговорил, и это были благодарные, даже нежные слова. И меня, и Виноградова это удивило и тронуло. В шестом часу утра мы ушли от Иосифа, на пустынном Невском остановили такси. Прежде чем ехать к себе, я завез Леню на Рылеева. Вылезая из машины, он поцеловал меня и сказал: "Спасибо за прекрасную ночь". Шофер посмотрел на нас странно.
После этой ночи мы с Иосифом из знакомых стали друзьями. Но так же, как и с сердечным кругом, я не очень понимаю, почему его так поразила моя реплика.
Сон на вторник, 30.IV.96Большая квартира. Люди бродят по комнатам. Вечер, неуютно. В той комнате Иосиф начинает читать. Я перехожу туда. Он сидит перед двумя-тремя знакомыми и читает. Я сажусь рядом. Беру его за руку с нежностью — прохладная рука. Я хочу ему сказать что-то про машинку, которую ему вставят в сердце, но понимаю, что этого говорить не стоит. Вместо этого спрашиваю: можно я зироксну (sic!) то, что ты сейчас читал? Он говорит: ну конечно, конечно. Еще говорит что-то с грустью и нежностью. Роется в портфеле, достает стихи. Тут сзади подходит М. и говорит своим обычным веселым голосом: "Ну, Лешенька, нам пора ехать". Я говорю: сейчас, сейчас. Ужасно не хочется отпускать руку Иосифа. Перед глазами оказывается разломанный шоколадный шар, из которого выпала бумажка со стишком. Читаю первые строки: "Вот взорванный та-та-та домик / раскрылся сразу точно томик…"
Пробуждение словно бы от необходимости запомнить — Не стишок, а чувства нежности, грусти, прохлады. Окончательное пробуждение — я понимаю, что сон был из стихов Иосифа — "С грустью и нежностью", "Сегодня ночью снился мне Петров, он как живой стоял у изголовья…".
Случай на площади Контрдэскарп
Я читал транскрипт интервью, данного Иосифом Адаму Михнику (оно было опубликовано в сокращенном виде), и наткнулся еще на одну скрытую цитату из себя. В интервью несколько раз речь заходит о Солженицыне. В частности, Иосиф говорит, что "Красное колесо" написано не по-русски, а по-славянски, что Солженицын, памятуя о своем статусе великого писателя, принудил себя заботиться о стиле и с этой целью стал подражать Дос-Пассосу ("киноглаз"). И то и другое из моей статьи 1984 года в "Континенте", той самой, из-за которой разыгрался грандиозный скандал. Я писал, что Солженицын, почти как Цветаева, пробует неиспользованные возможности русского языка — лексические и грамматические формы, какие по законам языка возможны, но еще никогда никем не употреблялись. Я писал, что иногда эти эксперименты уж слишком затрудняют чтение: "воронье смельство" — это уже и не по-русски, а на каком-то общеславянском языке. Ну, и про "киноглаз" и Дос-Пассоса — это и все критики отмечали.
Я не уверен, что Иосиф вообще заглядывал в "Красное колесо". Из его высказывания можно заключить, что доспассосовский стиль там преобладает, тогда как на самом деле вставки, именуемые "киноглаз" и стилистически нарочито отличающиеся от основного текста, совсем незначительны по отношению к массивному повествованию. Да, у Иосифа была выдающаяся способность ловить идеи в воздухе, едва ли не с одного взгляда схватывать философские концепции, но с литературой это не срабатывало. К счастью, он не часто судил о литературе понаслышке. Я помню еще только один случай: когда я его в этом заподозрил. У него есть неудачное эссе о современной русской прозе — "Катастрофы в воздухе". В основе этого эссе — доклад, прочитанный на какой-то конференции где-то в Швейцарии. Место доклада я, может быть, и путаю, но хорошо помню рассказ Иосифа, как он его писал. Собственно говоря, он рассказывал мне не о докладе, а о своей горестной судьбе, о том, как трудно ему приходится из-за блядского неумения отказывать. Вот согласился выступить на конференции, уже в самолет пытался накатать выступление, и вдруг понял, что потом не сумеет разобрать свои каракули, и начал писать крупными печатными буквами! он для "Нью-Йорк Ревью оф Букс" сделал из этого доклада "Катастрофой в воздухе". Там есть хорошие мысли о Достоевском и Платонове, но их он высказывал уже и прежде, а то, что он написал про современную прозу, да. же и на Иосифа-то было не похоже — обоймы имен, как в статьях "Литуратурки", довольно банальные, прямо скажем, характеристики писателей. И даже хвалил военную прозу Бакланова и Бондарева. Уклончиво проборматывал что-то положительное о Распутине, писателе даже на мой менее придирчивый вкус пошловатом. От удивления я не удержался и спросил бестактно: "Да ты их читал?" Ответ был слишком краткий и упрямый, чтобы прозвучать убедительно: "Читал".
Что касается моей статьи об "Августе 1914-го", то он ее читал или, по крайней мере, проглядывал в связи с последовавшим скандалом, кроме того, я делился с ним впечатлениями от романа в июне 84-го года в Париже. Как раз тогда я привез статью из Кёльна, неуверенно предложил ее в "Континент", зная, что Максимов Солженицына недолюбливает, и, к моему " удивлению, Максимов статью не только взял, но и расхвалил ее до небес. Я звонил ему с улицы, из телефонной будки, хотел попросить аванс и совсем взмок, выслушивая его похвалы, перемешанные с горькими замечаниями в адрес Солженицына и его последней прозы.