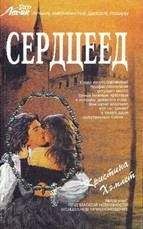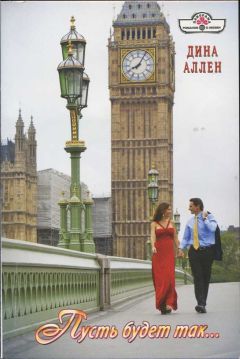Олег Дивов - Оружие Возмездия
Было очень муторно ждать. Призывники надрывно шутили, подбадривая друг друга. Я сидел на жестком топчане и пытался не думать, куда меня отсюда занесет нелегкая. По идее, я не должен был уехать совсем далеко. Один мой университетский одногруппник угодил аж на мыс Шмидта – практически край Земли, – и куковал там в обнимку с какой-то страшной ракетой. Другого угораздило мало, что в Монголию, еще и в железнодорожные войска, и теперь он клал шпалы через Гоби и Хинган. Я ни в Монголию, ни на край Земли не собирался. Не потому что был особенный, а из личной вредности. Ну, разозлили. Это случайно вышло. Чтобы все объяснить, придется вкратце изложить предысторию.
Я учился на факультете журналистики МГУ. Международное отделение – тридцать человек на курс, только мужчины, «годные к строевой». По большей части отпрыски дипломатов, журналистов-международников и прочей внешней разведки, слегка разбавленные детьми «творческой интеллигенции», военных и партработников. Чистая анкета, рекомендация от райкома комсомола, два творческих конкурса. Нам твердили, что мы элита и штучный товар, единственные конкуренты МГИМО. А чтобы не задирали носы – вот вам «программа сбивания спеси с международников». То есть 1 сентября, когда все пошли учиться, мы двинули на овощную базу. А через месяц – на «картошку». И так далее. Хотя график занятий у нас был плотнее, чем у других, и экзаменовали «международников» строго.
И все мы, как один, должны были отслужить в армии, иначе – пошел вон, на «общее отделение».
Армия была пропуском в ВУЗ для многих. Дембель имел льготу на поступление, которая перевешивала не только слабые оценки, но иногда и минусы в биографии. Один из моих ближайших друзей по ББМ, связист Генка Шнейдер, мог «откосить» по болезни. Но когда он сдавал экзамены на харьковский истфак, ему прозрачно намекнули, что с такой широченной жидовской мордой не мешало бы сначала Родине послужить, а потом уже в историки лезть. Генка, сын сапожника, плюнул – и призвался.
А мы, «международники» нацеливались на самую престижную советскую профессию. «Опять нелегкая судьба журналиста забросила меня в Париж…» Ради такого стоило в армию сходить.
Мы считали, что это справедливо.
Иллюзии начали развеиваться к концу первого курса. Журфак образца 80-х давал неплохое «общегуманитарное» образование, но ввести человека в профессию не мог: что такое один час занятий по специальности в неделю?! Поэтому все, кто хотел работать, делать реальное дело, сами пристраивались в газеты и на радио. Конечно, они «забивали на учебу». Иногда намертво. Чемпионом журналистского сообщества был Юрий Щекочихин, числившийся на факультете десять лет, но так и не получивший диплом. В «Комсомольской правде» считалось нормальным позвонить на журфак и спросить: извините, я у вас еще учусь, или уже выгнали?
Оставаться на международном отделении имело смысл, чтобы впоследствии устроиться туда, откуда «посылают за границу». Но кому нужен этот журавль в небе, когда в руки сама просится синица размером с курицу? Уже на втором курсе половину отделения было днем с огнем не сыскать: люди зарабатывали себе имя и нарабатывали связи. Их фамилии появлялись на полосах центральных газет.
К весне 1987-го еще один фактор принялся расшатывать международное отделение нашего курса. Некоторых уже призвали, а остальные почуяли, что вот-вот призовут. И народ загулял. Все, как один, страстно влюбились и крепко запили. Вскоре раздолбайство «международников» достигло таких размеров, что нас вздрючил лично декан. Не хотите, говорит, учиться, тогда отчисляйтесь. А грехов за нами набралось – куда отчислять, расстреливать можно. Хроническое непосещение занятий, пьянство, блядство, антисоветская болтовня. Крутовато для элитного отделения, кузницы кадров внешней разведки. И началась бойня – аттестация. Мы заходили по одному в кабинет, где нас терзала комиссия. «А я этого молодого человека вообще не знаю!» – «А я вас знаю! Вы ведете русский у 16-й группы» – «А вы из какой?» – «А я из 15-й!!! (ура, ура, ура)» – «Да, но в этом семестре я веду русский и у 15-й тоже!». Пауза. Абзац. Я потом сорок минут эту даму уговаривал принять у меня экзамен. Сдал на пять, дама сказала, из принципа ставит четыре, я не возражал. Мне было почти девятнадцать, я шел в армию, многих мы уже проводили, традиционно занося в военкоматовский автобус на руках…
Ходить или не ходить в армию, такого вопроса не стояло. Даже у тех, кто разочаровался в «международке». И у тех, кто вообще наплевал на факультет, неделями пропадая в редакциях. Мы были слишком давно и плотно замотивированы на военную службу. Нас несло в армию по инерции.
Горячего желания служить никто не проявлял. Если бы сказали, что это не обязательно, почти все остались бы, кроме самых идейных. Встречались еще мечтающие об Афганистане, но на них смотрели косо. Человек, рвущийся на откровенно «не нашу войну», выглядел то ли очень глупым, то ли очень кровожадным. Да и видели мы уже, с какими странными глазами оттуда возвращаются. Но, повторяю, все понимали, что идти служить придется. Во-первых, нас, мужчин 1967-68 годов рождения, очень мало. Военкоматы гребли всех, не обращая внимания даже на явные болячки (некоторых через месяц-два возвращали домой уже из войск). Во-вторых, было понимание того, что не служивший – человек, мягко говоря, трусоватый и не пригодный к нашей профессии. Мы воспринимали армию как жестокое испытание, и это тоже заводило: настоящий журналист должен увидеть всё. И дедовщину, и пресловутый «армейский тупизм».
Мы очень быстро взрослели. Нам просто надо было отслужить, чтобы почувствовать себя состоявшимися мужчинами.
Мы были готовы к холоду, голоду и грязи. Две «картошки» на поле Бородинской битвы даром не прошли. Но всеобщая бесхозяйственность и бестолковость, которую мы видели тут и там, отчего-то не подтолкнула нас к мысли, что в армии еще хуже. Мне не нравилась обстановка в стране, ухудшавшаяся год от года, а работа «журналистом на побегушках» и сортировка «писем в газету» укрепила во мнении, что у нас полный бардак. Но хотя бы в армии должен сохраниться относительный порядок! Она ведь армия!
К тотальной армейской безнадёге мы оказались не готовы. В письмах от ребят, ушедших первыми, между строк сквозило: здесь пусто, братцы, здесь ничего нет, нас ждут два потерянных года.
Тем не менее, я собрался уходить. Надо было увидеть все своими глазами. Да и пример родственников, которые служили, подстегивал – я уважал этих людей. Наконец, хотелось самой службой «расплатиться с государством», не чувствовать за собой долга по отношению к Советской власти, которой мы все по гроб жизни обязаны – это нам вдалбливали с раннего детства.