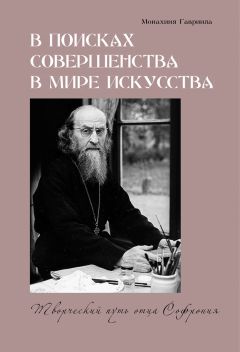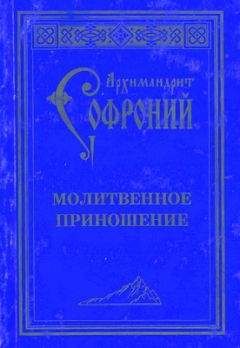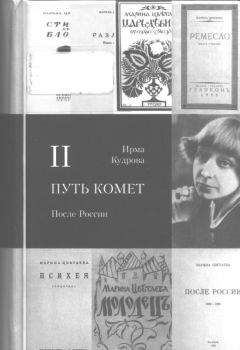Наталья Казьмина - Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы
Другое дело, что право своей частной правды A.M. не устраивает. Он тоже жаждет победы не по очкам, а нокаутом. Поэтому его правда должна быть объявлена всей правдой, а значит, истиной в последней инстанции. Тут вспоминается история, приключившаяся с Н. Михалковым, кажется, на одном из кинофестивалей. Защищая «Сибирского цирюльника» от подлых критиков, посмевших не оценить его картину по достоинству, Н.С. провозгласил, что верит в Божий суд. На что кто-то из критиков заметил: «А почему он так уверен, что Бог будет на его стороне?» A.M., конечно, может заставить кого-то поверить, что это и есть главная правда о мертвых, но радоваться выходу своей книги в свет, как когда-то радовались книгам Маркова и Виленкина, Алперса и Рудницкого, Бачелис и Зингермана, он заставить людей не в силах. Нокаута не получилось. И это, должно быть, для него самое обидное.
Увы, по тем главам, что опубликованы в «Известиях», почти невозможно поверить, как ни твердит это газета, в поставленную автором перед собою «серьезную и сложную задачу – понять и объяснить психологическую ситуацию пьющего человека, когда этот человек – художник большого масштаба» (это о Ефремове), поскольку именно масштаба не хватает ни Ефремову, ни другим героям и событиям, которые описывает автор. Достаточно просто это понять, сравнив главу «Когда разгуляется» всего с одним абзацем из письма возражающих автору Рощина и Шатрова: «Он работал, как вол, он пер, как танк, всем известно. И пил он, как всякий русский человек пьет: от напряжения, от отчаяния, от обиды, от неумения по-иному расслабиться. И это было его личное дело. Смелость и отвага, свобода имеют свою оборотную сторону: одиночество и отчаянье». У A.M. пока что тема трагедии художника, или, может быть, драмы, выглядит водевилем, а история МХАТа – цепочкой театральных баек и анекдотов с бородой: о том, как Брежнев посетил спектакль «Так победим!», о том, как на халяву жили в Советском государстве академические театры, о том, как тошнило всех от «Перламутровой Зинаиды», о том, как любила Катя Фурцева Ивана-дурака и потому позволяла ему дурака валять… Так что автор либо лукавит, говоря о своих серьезных задачах, либо задачи ему пока не даются. Мы так долго врали, объясняют нам «Известия», что теперь просто обязаны сказать людям правду! Но «сказать правду» – это не значит переписать всю предыдущую историю с точностью до наоборот, как пытался в свое время сделать тот же A.M. с парижскими гастролями МХАТа 1937 года. Мы так долго жили умолчаниями, так томились в театре, который вынужденно говорил эзоповым языком, что теперь должны сказать все и всех назвать своими именами. Может быть. Но значит ли это, что нам мешали сказать только то, что Ефремов был пьяницей и бабником? И вдохновенен был, только будучи пьян. И главные решения свои принимал спьяну и спьяну побеждал. А гений Смоктуновский в жизни был похож на городского сумасшедшего, а министр культуры Фурцева – на б…, а народная артистка Степанова в старости – на змею. (Каковы-то мы будем в старости. Дай бог, чтобы красивее.) Пусть это будет правдой. Но разве это полная правда? вся правда? главная правда? Чтобы так настойчиво и долго концентрировать на ней наше внимание? Впрочем, и на это A.M. имеет право. Он пишет не историческое исследование, а воспоминания. А их-то уж точно «каждый пишет, как он дышит».
Все вышесказанное вовсе не значит, что я согласна с М. Рощиным и М.Шатровым, которые утверждают, что о мертвых – или хорошо, или ничего. Мертвые сраму не имут. Им все равно. Они выше этих наших разборок. Поэтому легко могу себе представить (не веря, однако, в загробную жизнь), как Ефремов, прочтя эту «Уходящую натуру», глянет на нас свысока, наклонится к уху своей подруги и внятно и громко произнесет: «Сейчас пойдем с тобой е…» О мертвых, мне кажется, можно все. Но при одном условии – любви к ним как живым. Любви к ним большей, чем к самим себе. Вот тогда можно описывать и их недостатки, и их слабости, и их горести, и их гадкие поступки без всякого риска «опустить» их и себя в глазах современников. Оказалось, что близость автора к герою, как и его многолетняя славная репутация, не упрощает, а осложняет задачу и утяжеляет ответственность. Он имеет право на все – на иронию, шутливый тон, травлю анекдотов, на полную смену прежних своих позиций, даже на изложение любых частных подробностей. Но он сильно рискует, потому что не имеет права только на две вещи – отсутствие боли и нелюбовь.
Кому, как не A.M., опытному театральному критику, знать, что для человека пишущего очень важен порядок слов, что часто в театре не «что?», а «как?» решает все дело, что главными порой оказываются детали, мелочи, случайно брошенное слово, правильно или неправильно выбранная интонация. Оказалось, что правду надо уметь излагать.
С опубликованных страниц «Уходящей натуры», к сожалению, не встает образ человека, который двадцать лет назад писал хорошие книги, блестяще говорил, сочинял замечательные рецензии, дружил на равных с великими театрального мира и был одним из тех, на кого хотели, наверное, равняться молодые театральные критики. Герой мемуаров кажется человеком маленького роста, меркантильным, злопамятным, тщеславным, никогда не любившим ни Театр Советской Армии, с которого начинал, ни МХАТ, в котором прошла лучшая часть его жизни. Он – царь Мидас наоборот: к чему ни прикоснется, все превращается в пепел. Описывая свою жизнь, он кажется себе «страдальцем», томившимся в золотой мхатовской клетке. Он бестелесной и безгрешной тенью скользит по страницам. С недоуменной улыбкой ребенка, забредшего на родительскую половину, описывает куролесившего в высоких кабинетах О.Н., сытых мхатчиков, обожавших халяву, армейцев, покупавших на гастролях рейтузы мамам. Он, конечно, никогда не пробовал конины. Но чай с баранками у Барабаша или обед в резиденции казахского лидера партии, описанные им едва ли не любовнее и подробнее, чем спектакли и люди, с которыми он жил бок о бок, выдают его с головой.
P.S. Хочется верить, что книга шире опубликованных отрывков осветит вопрос как о личности Олега Ефремова, так и об истории МХАТа. Хотя надежда у меня слабая, поскольку глава о Ефремове в «Предлагаемых обстоятельствах» была самой вялой, холодной и безлюбовной из глав книги.
Конечно, воспоминания – жанр прихотливый, это не диссертация, и автор имеет полное право писать их так, как захочет. Но воспоминания – жанр еще и ужасно коварный. Как правило, в них нельзя скрыть даже то, о чем автор умолчал. Они высвечивают и судьбу, и характер мемуариста порой даже ярче, чем натуру его героев.
Юрий Любимов
Дар[7]
Одно из самых счастливых качеств Ю. Любимова – он живой. Живой, как Федор Кузькин. Пройдя огонь, и воду, и медные трубы, – живой. Он не поспешает за временем, но предчувствует его. Владеет даром контекста. Он вписывает свои спектакли в общий контекст и свободно меняет его согласно собственным оценкам и собственному масштабу. Это качество и определяет вечный интерес к его творчеству и к «старой, доброй Таганке», которая вопреки непростым перипетиям судьбы, способна удивить даже собственного зрителя – уверенного, что он-то знал этот театр наизусть.
Когда вокруг бьют в набат, провозглашают анафему уходящему миру, торопятся «разрушить до основанья, а затем»… Ю. Любимов учит жить при невозможности жить. Он и тут верен себе. Не присоединяется к хору, не доказывает очевидного. Он возвращает театру, уже почти отставленному от любви современности, его достоинства и его права. Он делает неожиданно оптимистический и вместе с тем трагический спектакль. Он выставляет против злобы дня (увы, сегодня это выражение почти утратило свой переносный смысл) вечные категории, которые впору осознавать, может быть, именно сейчас. Перед лицом чумы, перед концом тысячелетия, перед началом грозных катаклизмов. Он все, конечно, помнит. И воспоминания тоже идут на растопку художественной идеи. Воспоминание о прошлом Таганки, этой «рубке» с властями не на жизнь, а на смерть. Воспоминание о насильственном отлучении от отечества, от своей культуры и своей публики, которая нужна Ю. Любимову как воздух, как вдохновение. Воспоминание о скитаниях, опыт которых, как это ни ужасно звучит, позволил Ю. Любимову сохранить прекрасную творческую форму. Однако в «Пире во время чумы» есть новое и нечто большее – философский покой свободной души, позволяющий Ю. Любимову взглянуть и на Пушкина, и окрест с высокой верой и высоким богохульством.
Выбор Ю. Любимова не бывает случайным. Пушкин в третий раз рождается на Таганке. Пушкин сопровождает театр и исповедует его в самые трудные времена. Пушкин, самый, казалось бы, нетаганковский автор Таганки, снова сулит ей обновление. «Пир во время чумы» вместе с двумя предыдущими пушкинскими спектаклями и хронологически, и ПО смыслу выстраиваются в триптих. Вернее, диптих с прологом, который чуть не стал эпилогом.