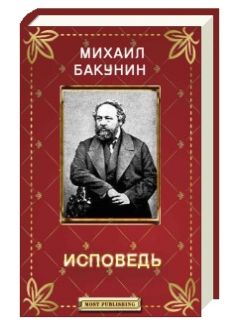Наталья Пирумова - Бакунин
Попытался он на этот раз действительно наладить какой-либо прочный быт для семьи. В надежде на получение своей части наследства из России, куда поехала для оформления дел сестра Антонины Софья Лозовская, он в долг приобрел в Лугано виллу с участком земли, на котором решил завести огород. На это неожиданное увлечение ушел целый год. Прочтя много сельскохозяйственной литературы, он решил все делать на научной основе. Для начала были вырублены все деревья и выкопано множество ям, в которые предполагалось насыпать удобрения. Посещавшая его в это время А. В. Баулер рассказывает, как Михаил Александрович решил сеять огурцы и непременно укроп. Жена его возражала, уверяя, и не без оснований, что в этом саду никогда ничего, кроме ям, не будет.
«— Ямы специально для лягушек, — сказал Бакунин, — до смерти люблю их кваканье. Удивительно музыкальное животное. Жили в русской деревне? — обратился он к Баулер. — Что может быть лучше русского летнего вечера, когда в прудах лягушки задают свой концерт?
Он опустил голову, …печаль подернула лицо и тенью легла вокруг губ».
Видимо, тоска по России была одним из самых сильных его чувств последние два года. Баулер пишет, как он много вспоминал о жизни в Премухине и заставлял ее рассказывать «про деревню». Причем его интересовали не характеристики людей или изменившиеся с тех пор нравы, а главным образом картины русской природы. Иногда он спрашивал, точно сам вспоминал что-нибудь и хотел ярче вызвать в себе воспоминание: «А было у вас в деревне лесное болото?» Или говорил: «Расскажи-ка, какой у вас был фруктовый сад». Если мой набросок картинки русской природы мне удавался, М. А. через день-другой заставлял меня повторить рассказ. «Ну-ка расскажи еще про заливные луга».
Как-то раз в общей беседе речь зашла о смерти. Присутствовавший здесь итальянец профессор Ч. Педерцолли сказал, что смерть страшна для всякого. «Смерть? — воскликнул Бакунин. — Она мне улыбается».
Затем, перейдя на русский язык и обращаясь к Баулер, добавил: «Знаете, у меня была сестра. Умирая, она сказала мне: „Ах, Мишель, как хорошо умирать! Так хорошо можно вытянуться…“ Не правда ли, это самое лучшее, что можно сказать про смерть?»[545]
Бывший член Парижской коммуны Артур Арну, живший тогда в Лугано, рассказывает, как однажды Бакунин пришел к нему веселый и радостный. На вопрос о причинах его хорошего настроения он ответил:
«— По дороге я выплюнул один из моих последних зубов!
— И от этого Вы сияете?
— Еще одна частица моего „я“ исчезла, — ответил он с гордым и верховным презрением к жизни и смерти».[546]
А. Арну и А. Вебер оставили в своих воспоминаниях последние описания внешности и быта Бакунина.
Быт Бакунина был, по существу, тот же, что и всегда. Поношенность его платья, крайняя бедность обстановки, его окружающей, минимальность его личных потребностей всегда отмечались теми, кто что-либо писал о нем. «Одет он был всегда в одно и то же весьма истасканное платье, — свидетельствует Вебер, — ел едва достаточную пищу, даже постели удобной у него не было: на его узенькой железной кровати с трудом умещалось ею громадное тело. Она была ему коротка, вся шаталась и скрипела, а большой старый платок, служивший одеялом, покрывал его еле-еле. Единственной его роскошью был табак и чай. Курил он целый день, не переставая, и целую ночь с небольшими перерывами сна, когда боли давали спать».[547]
Прежние друзья, столь несправедливо поступившие со своим учителем, помирились с ним. Кафиеро, которому Бакунин простил все обиды, приезжал вместе с женой проститься с ним перед отъездом Олимпиады в Россию. Бывал в Лугано и Росс, и хотя Бакунин беседовал и переписывался с ним, но теплого чувства к нему уже не возникло вновь.
Потеряв старых друзей, Бакунин нашел новых в лице простых рабочих, живших в Лугано.
«Так велико было обаяние его удивительной личности до последнего часа его жизни, — пишет Баулер, — что в небольшой группе итальянских анархистов-изгнанников, простых сапожников, угольщиков и цирюльников Бакунин имел не только друзей, но и обожавших его сыновей.
Ежедневно сапожник Андреа Сентадреа после тяжелой дневной работы приходил на виллу укладывать М. А. в постель и, сделав все нужные манипуляции, сидел с ним до глубокой ночи. Утром приходил Филиппо Мауцоти. Были и другие сидельцы-добровольцы…
Все эти люди, едва жившие на свои ничтожные гроши, не только не получали никакой платы от Бакунина, но часто на собственные деньги покупали для него какие-нибудь нехитрые лакомства».[548]
До последнего времени жизнь не переставала испытывать силы Бакунина. Новое несчастье обрушилось на него, когда выяснилось, что денег, полученных, наконец, из Премухина, не хватит не только на обеспечение семьи, но и на оплату стоимости виллы.
Накануне смерти тяжело больной старый человек, обремененный семьей, снова оказывался без крыши над головой. На семейном совете было решено попробовать перебраться в Неаполь, если итальянские власти разрешат это. Пока же Михаил Александрович направился в Берн к старому другу Фохту, чтобы посоветоваться относительно своих болезней. Хроническое воспаление почек, ревматизм, склероз и гипертрофия сердца, осложненная водянкой, делали его положение крайне тяжелым. Выехал он из Лугано 9 июня 1876 года.
На бернском вокзале его ждал Фохт.
«Я приехал в Берн, — сказал Бакунин другу, — для того, чтобы ты поставил меня на ноги или же закрыл мне глаза».
В клинику, куда положил его Фохт, пришла старая приятельница — Мария Каспаровна Рейхель.
«Маша, я приехал сюда умирать» — так приветствовал ее Михаил Александрович. Лечение в клинике Фохта первое время несколько облегчило страдания Бакунина.
15 июня он смог навестить Рейхелей. Попросил поиграть ему на фортепьяно. В разговоре на замечание Рейхеля о том, что он так и не написал своих воспоминаний, Михаил Александрович ответил:
«— Скажи-ка на милость, для кого я стал бы их писать?.. Теперь все народы утратили революционный инстинкт. Все они слишком довольны своим положением, а страх потерять и то, что у них есть, делает их смирными и инертными. Нет, если я поправлюсь, то я, пожалуй, напишу этику, основанную на принципах коллективизма, без философских и религиозных фраз».[549]
Очевидно, в тот же день написал Бакунин письмо, подписанное шифром (2) и адресованное, по-видимому, Ралли.
«Что же делать? Ждать. Ждать, что, может быть, обстоятельства Европы сложатся круче, т. е. совокупности экономических и политических условий. Индивидуальная же деятельность, организаторская, агитаторская бессильны ни приблизить, ни изменить ничего… Наш… час не пришел».[550]