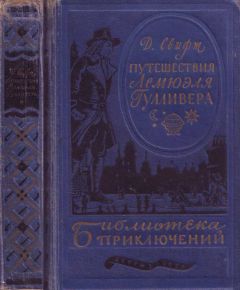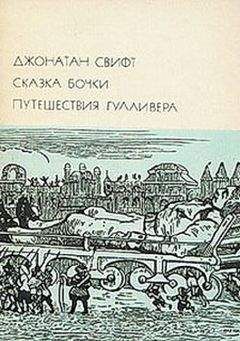Михаил Левидов - Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях
А дальше – тишина.
Дни агонии были долги. Они длились пять лет.
Но и за эти годы Свифт не лишился разума и сознания.
С 1741 года Свифт почти совершенно перестал говорить. Он не утратил дар речи, его состояние нельзя назвать афазией, изредка он все же произносил отдельные слова, фразы, и не бессмысленные. Но полное отсутствие памяти и глухота привели, очевидно, к утере механической способности составлять слова. Однако сумасшествия, в его клинической форме, не было – легенда о сумасшествии была пущена впервые в клеветнических мемуарах Оррери. Правда, в августе 1742 года специально образованная комиссия нашла, что Свифт «не в состоянии заботиться о себе и своем имуществе, как лицо слабого ума и лишенное памяти», но нигде в выводах этой комиссии не говорится о сумасшествии.
Тяжело об этом и подумать, но, очевидно, Свифт до последних дней понимал, что с ним происходит. Тем мучительней была его пытка.
За последние годы он меньше двигался и потолстел. Лицо его округлилось, в глазах застыло детски-жалобное недоумение… Последняя его фраза относится к 1744 году. Она очень проста: «Какой я глупец…»
19 октября 1745 года шарканьем ног, шумом голосов, почтительно приглушенных, наполнился обширный и пустой дом Джонатана Свифта, декана собора св. Патрика. Тело семидесятивосьмилетнего старика лежало, прикрытое, в его кабинете, на широкой софе.
Люди шли нескончаемым потоком. Жители Дублина, ремесленники, лавочники, бедняки, старухи, те, кто видели его на улице, в церкви, те, кто слышали постоянные толки о странном английском священнике, заступавшемся за ирландцев, помогавшем беднякам, о суровом декане, написавшем веселую книгу, о гневном человеке, ненавидевшем угнетателей и поработителей, о безумном старике, который был мудрецом… Подходили к телу, останавливались, вглядывались в спокойное лицо с закрытыми глазами и седыми прядями волос, свешивавшимися на высокий лоб, на котором разгладились морщины… Кто-то постоял у тела, наклонился, отрезал прядь волос и бережно спрятал у себя на груди. Шорох прошел по комнате, люди сгрудились у тела… Снова стало тихо, и в чинном, торжественном порядке образовали очередь к телу, и каждый получил маленькую прядь седых мягких волос.
Так простился ирландский народ со своим великим защитником. И если б мог знать об этом Джонатан Свифт, улыбнулся бы он перед смертью гордой, радостной улыбкой, какой так редко приходилось ему улыбаться в жизни…
Эпилог
Свифт пишет завещание
…Свободный человек менее всего думает о смерти; в исследовании не смерти, а жизни состоит его мудрость…
Спиноза…Меч вы должны возложить на мою могилу: ибо был я храбрым солдатом в войне за освобождение человечества.
ГейнеТак редко приходилось ему улыбаться в жизни. «Суровое негодование» не разрешало улыбки. Свифт прожил долгую и трудную жизнь. В ней было очень мало радости, солнца, смеха. Но зато в ней не было сомнений, шатаний, борьбы с собой. Если б спросить его – была ли его жизнь счастливой, он должен был бы ответить честно: «Нет». Но если б спросить его – была ли его жизнь правильной, с той же честностью он мог бы ответить: «Да». Правильная жизнь не должна быть счастливой, счастливая жизнь не может быть правильной… Такова стержневая форма «свифтианства»; таким хотел он видеть урок, назидание, завещание своей жизни…
С этим завещанием – оно провозглашено уже в «Сказке бочки» – начинает он «Путешествие в некоторые отдаленные – страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях»; об этом завещании рассказывает он в каждой своей книге, а особенно в той, которая называется: «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей».
В его веке, в его среде то были действительно путешествия в отдаленные страны. Конечно, нельзя сказать, что Свифт, подобно Гулливеру, был единственным, кто их посетил. Некоторые открыли подобные и схожие страны до него. Свифт, по-видимому, не знал о существовании Спинозы, не видел ни одной строчки, им написанной, хотя «Богословско-политический трактат» был опубликован в 1670, а «Этика» – в 1678 году. Но тем более разителен тот факт – несомненный, хотя и не замеченный ранее, – что оба путника странствовали в одной и той же стране, пили воду из одного ручья, обращали свой взгляд к одному и тому же солнцу мысли и познания. Не зная того, Свифт повторял и развивал в своих политических и церковных памфлетах многие положения «Богословско-политического трактата» (полемика с Гоббсом, отношение к государству и власти, роль и значение религии). И какое же количество схолий и теорем спинозовской «Этики» фигурирует, гениально воспроизведенное, в «Гулливере»… Стержень учения Спинозы – отождествление разума и добродетели – он же и лозунг Свифта; Спинозовская критика «страстей» воссоздается у Свифта яростной сатирой против одержимости, глупости, порока. Но Спиноза жил жизнью и счастливой и правильной: потому, конечно, что он не думал о «совершенствовании рода человеческого» в свифтовском смысле.
Но одиночество Свифта в его «путешествиях» было гораздо более подчеркнутым, непримиримым и принципиальным, чем одиночество всех тех, кто посетил «отдаленные страны» до него или в его эпоху. Не хотел или не умел он видеть тех, кто в его время, рядом с ним вступал на путь гуманистического познания жизни и человека, – Ньютон, Бойль, Толанд, Коллинз – большие, славные имена… Но к ним – подлинным его товарищам на пути гуманизма – не знает Свифт иного отношения, кроме гнева и насмешки.
А скольких из современников-спутников он просто не знал, не нашел… В 1721 году уже вышли «Персидские письма» Монтескье, и опять разительны совпадения между сатирой Монтескье и «Гулливером». Целых пятнадцать лет после выхода «Писем» жил еще Свифт полной умственной жизнью, но нигде в его работах, письмах, беседах нет и намека, что он не то что читал, а хотя бы слышал об этой книге.
Случай, печальный случай.
Но только ли случай?
Духовное одиночество Свифта, пребывание его вне гуманистического движения и Англии и Европы первой трети века обусловлено причинами, лежавшими вне воли Свифта. Но в какой-то мере он сам и намеренно создавал свое одиночество, особенно в дублинские годы. Ибо было это духовное одиночество важнейшим элементом правильной жизни, которая не могла быть счастливой.
Свифт хотел быть одиноким.
Одинокий и побежденный… Конечно, побежденный: другим он не мог себя чувствовать. «Теперь я навсегда покончил с этими фантастическими планами» – таково признание уставшего путника поздним вечером, признание о планах, рожденных на утренней заре, таков итог «путешествий». Нужно ли признание более четкое итог более красноречивый?